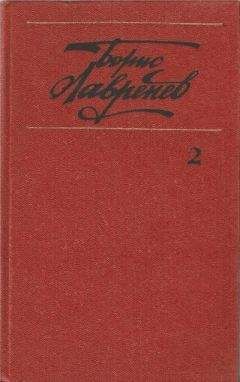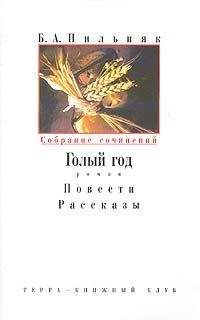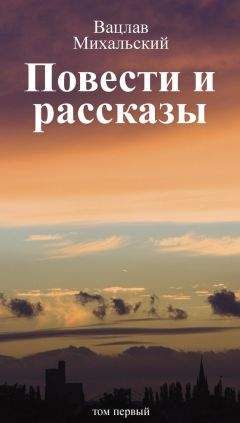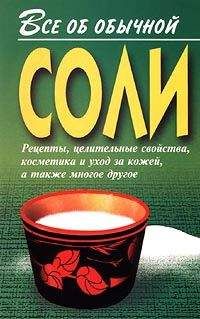Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы
— Ну, валяй! Но по ночам больше не шляться, а то под суд отдам!
Дмитрий отправился в курганчу, где помещался эскадронный околоток.
На пороге сидел приехавший из Ташкента фельдшер.
— Товарищ фершал! Мне Машу побачить. Эскадронный дозволил.
— Соскучился, рыцарь Личарда? Иди, иди, она тебя тоже спрашивала.
Дмитрий взволнованно перешагнул порог и остановился.
Мириам сидела на постели похудевшая, тоненькая, прозрачная. Ресницы ее вздрогнули, распахнулись бабочкиными крыльями, глаза просияли горячим светом, и она протянула Дмитрию здоровую руку.
— Димитра!.. Джан!..
Дмитрий неловко подошел к постели, опустился на колени и уткнулся головой в одеяло.
Мириам тихо провела пальцами по его волосам и прошептала несколько ласковых слов.
И не знал Дмитрий как, но сползла и повисла на его кирпичной щеке радостная горячая капелька.
Мириам выздоравливала и уже выходила греться на солнце на дворик околотка.
Дмитрий каждый день приходил в околоток, приносил цветы, набранные в долине Чимганки, сплетал ей венки.
Он приводил с собой красноармейца Уразбая, киргиза, и с его помощью разговаривал с Мириам.
Она охотно согласилась ехать в Ташкент, охотно согласилась ехать с Дмитрием на родину.
И с каждым днем радостнее темнели ее глаза и звонче становился смех.
Эскадрон весь был под знаком любовной истории, и красноармейцы бродили рассеянные, мечтательные и рассказывали друг другу романтические приключения.
Абду-Гаме сидел по-прежнему в своей лавке, суровый и молчаливый, замкнувшийся, и не обращал внимания на перешептывание соседей.
Вечером в воскресенье Мириам проводила Дмитрия до казармы и вернулась в околоток.
Ночь наступала горячая, душная, тяжелая. Над горбами Чимгана ползли черные круглые тучи и полыхали зарницы. Собиралась весенняя гулкая гроза.
Около полуночи Мириам проснулась. В комнате было душно, пахло лекарствами. Ей захотелось подышать воздухом.
Тихонько приподнявшись с кровати, она вышла наружу, перешагнула через спящего на пороге фельдшера и перешла двор.
Свежий ветерок взвихрил пыль и приятно прошелестел по разгоряченному телу.
Мириам вышла за ворота и прислонилась к дувалу, смотря на горы, которые видела в последний раз. Завтра с почтой она должна была уехать в далекий Ташкент, а оттуда с Димитрой еще дальше.
Зарницы полыхали чаще, медленно катался по скатам ласковый гром.
Мириам вдохнула воздух полной грудью и повернулась, чтобы идти обратно, но сразу что-то жестко заткнуло ей рот, сверкнула в воздухе узкая полоска и впилась в горло.
Сдавило грудь, забулькала в гортани хлынувшая черной волной кровь, и она сползла по стенке дувала в пыль.
В глазах поплыли оранжевые круги, и вдруг земля, небо, дувалы, деревья сразу зацвели ослепительным альт звездным цветом, как в ту ночь, когда она впервые увидела Дмитрия, но только неизмеримо прекраснее, неизмеримо пышнее.
Потом потоком хлынула тьма.
Разбуженный хрипом фельдшер бросился к воротам и поднял тревогу.
Сбежались красноармейцы, пришел товарищ Шляпников.
Мириам уже не нужна была помощь.
Нож перерезал шею до позвоночника.
Товарищ Шляпников не зевал.
Патрули немедленно бросились к дому Абду-Гаме и муллы.
Муллу привели. Абду-Гаме исчез…
Жены рассказали, что с вечера к нему пришел отец Мириам, они оседлали лошадей и ночью ушли.
Вернулись, сели на лошадей и умчались, куда — неизвестно.
Муллу пришлось отпустить.
На следующий день похоронили Мириам за окраиной кишлака.
Дмитрий осунулся, побледнел и ходил как незрячий.
Но когда взгорбатился глиняный холмик над телом, он выпрямился и, стиснув зубы, молча погрозил кулаком по направлению к горам.
Через неделю в долине Ангрена завозились басмачи.
От эскадрона пошла в горы разведка. Один разъезд на юг, другой на восток.
Во втором разъезде пошли Ковальчук, Дмитрий, Уразбай и еще два человека.
Они прошли по горным тропинкам, среди цветущих эремрусов и полыхающих огнем маков, тридцать верст, не встретив противника, заночевали в кишлаке Сой-Тюбе у знакомого узбека.
Утром двинулись в обратный путь.
На спуске у Ангрена пришлось вытянуться в длинную цепочку.
Лошади осторожно скользили по круглым голышам, фыркали и оступались.
Уразбай лениво качался в седле, тянул унылую долгую киргизскую песню, застревавшую в скалах.
Дмитрий ехал понуро и равнодушно и два раза чуть не вылетел из седла, когда конь споткнулся.
— Митро, очухайся! — крикнул Ковальчук.
Дмитрий только махнул рукой.
А на другом берегу Ангрена, над серо-зеленым обвалом гранита, упершимся в тропинку, высокое солнце вспыхивало блеском на маленьком сияющем колечке, и колечко шевелилось, вздрагивало и неуклонно поворачивалось за лошадью Дмитрия.
И когда лошадь вступила на трясущийся мост, сияющее колечко на сотую долю секунды застлалось синеватой пленкой.
Стозвучным отгульем запрыгал по горам выстрел.
Дмитрий поднял руку к шее, выронил поводья и осунулся с седла на доски моста. Ноги его повисли над бешеным ревом Ангрена.
Но Уразбай одним скачком подлетел и, перегнувшись с седла, оттащил от края моста.
Повернулся и крикнул Ковальчуку:
— Давай ска́чка!
Огретая камчой лошадь Уразбая птицей перелетела мост, но сейчас же хлопнул второй выстрел, и лошадь уткнулась головой в щебень, а Уразбай выкатился комком в сторону.
Ковальчук вынесся вперед, крепко зажав шашку.
Он увидел, как из-за камня карабкается вверх от тропинки, к отвесным скалам, человек в полосатом халате, с винтовкой.
Лошадь, тяжело дыша, карабкалась скачками в гору.
«Догоню, не догоню?» — подумал Ковальчук и свирепо всадил шпоры.
Лошадь рванулась.
Расстояние между человеком и лошадью сокращалось быстрее, чем между человеком и скалами.
Человек понял, обернулся и вскинул винтовку.
Ковальчук зажмурился.
Бах… мимо.
Лошадь в два маха донесла Ковальчука до человека в халате.
Красноармеец сразу узнал откормленное лоснящееся лицо бая, его черную бороду.
Абду-Гаме лихорадочно защелкивал затвор.
Но поднять вторично винтовку не успел, Ковальчук был уже совсем рядом.
Шашка метнулась кверху, Ковальчук перегнулся и крикнул:
— Получай!.. За Митро!.. За Машку!..
И свистнувшая сталь застряла в зубах Абду-Гаме.
………………………………………………
Дмитрия положили на винтовочных ремнях между двумя лошадьми и повезли в Аджикент.
Приехали вечером, и Ковальчук отправился с рапортом к товарищу Шляпникову.
— Молодец! — сказал эскадронный.
Дмитрия утром на арбе отправили в госпиталь в Ташкент с простреленным легким и без сознания.
Сурова и крепка земля железного хромца Тимура.
Десятки веков не тают снега на упирающихся в небо пиках, десятки веков горячей смертью душат пески неосторожных путников в черных пустынях.
И десятки веков лежат камни на горных тропинках, над ревущими ложами горных потоков.
И люди в стране Тимура как камни — недвижимы и крепки.
И в глазах у них, даже после смерти, каменная неразгадываемая тайна.
Как три тысячи лет назад, стоит над краснокаменным руслом Чимганки приземистая чайхана, и заря, зеленеющая над двумя горбами Большого Чимгана, золотит вековую глину.
И тот же зеленобородый чайханщик Ширмамед кутается по утрам в рваный халат от ледяного ветра, ползущего с фирнов.
И только сады в долинах шестой год процветают по весне ослепительным алым звездным цветом, ширятся, разрастаются, захватывают горные склоны и камни.
И на тучном лёссе, удобренном костями всех народов — от железных фаланг Искандера до апшеронских стрелков Скобелева, — пышен и победен звездный ослепительный цвет.
Ташкент, 1923 г.
ПРОИСШЕСТВИЕ
Хреновино лежит промеж степных оврагов и буераков, заросших будяком и полынью, рыжими и унылыми.
Каким бесшабашным бродягам влезло в буйные головы заложить первые хибарки в этом никчемном месте — неведомо.
Но поселение основалось, расползаясь по косогорам, выперло в небо колокольни двух церквей, отмечалось на карте кружком четвертого разряда, и была в нем Суворовская улица, по которой вечером блуждали стада краснощеких прелестниц и их кавалеров вперемежку с возвращающимися по домам стадами коров и грязно-шерстных степных овец.
Суворовская улица густо заросла темной листвой акаций, сквозь которую горели и пылали баканом и ярые вывески лавчонок.
В годы железнодорожной горячки рельсовый путь между двумя торговыми центрами зацепил веткой окраину Хреновина, но оживить мертвое место не мог.