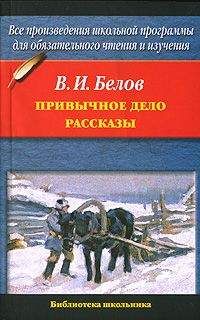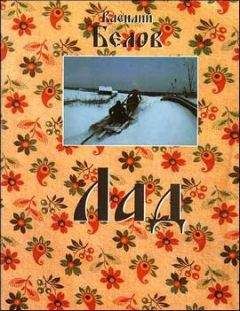Василий Белов - Привычное дело
Она упиралась и раздвигала копыта, когда пришедшая в лес хозяйка намотала на ее рога веревку и повела из поскотины. Рогулю привели в большое колхозное стадо.
Чужие тощие коровы, недовольные ею и все-таки равнодушные, бродили кругом, но она не замечала этого недовольства. Люди отпустили ее и ушли, и вдруг Рогуля услышала призывный утробный рев. Этот рев проникал в нее всю, властно завладевал ее движениями, она пошла на него, отрешенная от всего окружающего. Большое, во многом не похожее ни на кого из коров, но все же понятное Рогуле существо тоже шло к ней, они сблизились, и бык, напрягая мускулы, осторожно коснулся кольцом Рогулиной шеи.
Потом он ласково положил ей на спину толсторогую голову. Рогуля же зачем-то увернулась и в ту же минуту ощутила радостную облегчающую тяжесть. Солнце на голубом небе стремительно выросло, ослепило и заполнило весь зеленый широкий мир, тот мир, в котором, будто снежинка в глазу, тотчас же растаяла вся Рогуля.
Так и кончилась ранняя безбедная пора. К обновленной Рогуле сразу же после того дня пришло ровное спокойствие. В то лето она еще не раз слышала жалобный сиротливый рев, доносившийся из чужого стада. Но этот рев уже не трогал ее, она была равнодушна. Теперь она стала осторожна в движениях. Сонная глубина ее глаз таила в себе отрешенность никому не заметного достоинства, и Рогуля вся жила в своем, образовавшемся в ней самой мире. Даже обжигающий удар пастушьего бича не мог ни разу вывести ее из состояния отрешенности. К этому времени пришла изнуряющая летняя жара. Смешанная с гулом оводов, слепней, мух, комаров, жара эта давила на весь белый свет, на всю бесконечно терпеливую землю.
Пожухли и очерствели изросшие к исходу лета молчаливые травы. Пересохли и умерли когда-то ясные лесные ручьи, даже пастушье эхо еле звучало в лесах. Рогуля была попрежнему равнодушна. Иногда, повернув голову на шорох в кустах, она забывала выпрямить шею, так и стояла с повернутой головой. Только однажды в полдень, когда оводы и слепни облепили ее всю и предельная боль стала невыносимой, Рогуля взбесилась, обезумела и со стоном кинулась из лесу в деревню, к людям. За ней, закинув хвосты на спину, бросилось все стадо. Лишь в прохладной темноте двора Рогуля пришла в себя.
После этого пастух пас коров по ночам. Серая невидимая мошка забиралась глубоко в шерсть и пила кровь. Кожа у Рогули зудела и ныла. Однако ничто не могло разбудить Рогулю. Она была равнодушна к своим страданиям и жила своей жизнью, внутренней, сонной и сосредоточенной на чем-то даже ей самой неизвестном. Тихие дожди августа отрадной завесой заслонили пастбища и поля от многомиллионной летучей твари: остались только одни комары и лесные клещи-кукушкины вошки. Сама кукушка замолкла еще в середине лета-видно, подавилась ячменным колосом.
В ту пору Рогулю часто встречали у дома дети. Они кормили ее пучками зеленой, нарванной в поле травы и выдирали из Рогулиной кожи разбухших клещей. Хозяйка выносила Рогуле ведро пойла, щупала у Рогули начинающиеся соски, и Рогуля снисходительно жевала у крылечка траву. Для нее не было большой разницы между страданием и лаской, и то и другое она воспринимала только лишь внешне, и ничто не могло нарушить ее равнодушия к окружающему.
Это длилось до самой вьюжной зимы. Темный сырой хлев заиндевел изнутри, Рогуля согревала свое жилье собственным теплом. За бревенчатой стеной шуршали снежные ветры, они еще больше оттеняли глубокую зимнюю тишину. Однажды ночью Рогуля учуяла за хлевом волка. Но он ушел до того, как она разбудила в себе тревогу, и опять темная тишина охватила и хлев, и Рогулю, и всю безбрежную зиму. Вскоре у нее сперва означилось, потом набухло вымя, и она еще сильнее ощутила приближение того события, для которого она и жила.
Правда, она не знала, что жила только для этого. Но, ощущая толчки в животе, Рогуля все чаще начинала беспокоиться. Теперь она боялась хозяйки и не доверяла ее рукам. Рогулю тревожил даже запах снега, исходивший от этих рук, она долгим предупреждающим мычанием встречала человека.
В ту ночь, уже под утро, когда хозяйка спала, Рогуля после недолгой муки облизала теленка. Она будто раздвоилась, словно стало в ту ночь две Рогули: она сама и это теплое существо. Но его унесли от нее утром. Полная тревоги и тоски, она мычала, будто плакала всем своим опустевшим нутром. Но люди унесли его, вернее, половину ее самой, отчаяние и боль заполнили весь хлев и ее самое.
Но это отчаяние вскоре высохло, как детская пуповина, перешло в еще большее равнодушие к себе.
…Ветер не спеша обласкал пригорок, захолонул в широких ноздрях коровы. Рогуля дремала, но в ее сон закралась давнишняя-давнишняя боль-боль потери.
Рогуля остановила жвачку и, не вспомнив причину этой боли, дремала и плакала от этой давнишней неясной боли, и горошины слез одна за другой выкатывались из ее безучастных ко всему глаз.
Но она всю жизнь была равнодушна к себе, и ей плохо помнились те редкие случаи, когда нарушалась ее вневременная необъятная созерцательность. Ей плохо помнилась и та весна, больше, чем другие весны, сдобренная страхом. Она лежала тогда тут же, на этой горушке, в первые зеленые дни, и однажды ее мохнатое ухо вздрогнуло, изловив незнакомое движение в чапыжнике. Ветер в то утро тянул к чапыжнику, и Рогуля, ничего не почуяв, опять успокоилась.
Там, в зарослях, зеленела хилая, выросшая на несчастливом месте береза. У этой березы лежала большая тощая медведица. Припав к еще не прогретой земле, медведица сонливо шевелила узко поставленными ноздрями, но была вся напряжена и готовилась к прыжку. Ее тощие бока нервно вздрагивали. Голодная еще после зимней спячки, она тоже была матерью и потому смела и сильна.
Медведица лежала в чапыжнике и знала, что ей не удастся в одно усилие допрыгнуть до жертвы, для этого нужна осенняя крепкая сытость. Надо было подкрасться еще на добрую половину прыжка, в то же время она чувствовала, что корова сейчас встанет, и тогда будет еще труднее запрыгнуть ей на спину. И медведица, не дождавшись очередного ветряного вздоха, забыв осторожность, продвинулась вперед. Тотчас же, ощутив беду, часто забилось от страха Рогулино сердце, она вскочила и с жалобным ревом метнулась в сторону. В то же время медведица двумя тяжкими, но быстрыми прыжками настигла Рогулю и бросилась на нее, слепая и яростная от страха нападения. Потому что нападающий всегда ощущает страх, ощущает раньше своей жертвы.
Рогуля метнулась в сторону, и медведица, метившая разорвать сонную артерию, лишь скользнула лапой по шее коровы.
Рогуле надо было бежать, а она металась по лесной полянке, все другие коровы тоже бестолково метались и трубили. Медведица в отчаянии бросилась на Рогулю еще раз, но тут прибежал пастух, закричал, заколотил в барабанку, и медведица, плача, ломая сучья, исчезла в чапыжнике.
После этого Рогулю три дня держали во дворе, дети носили ей самую лучшую траву, а хозяйка делала ей примочки. Три глубокие раны на шее быстро затянуло коростой.
* * *
Прошла еще одна осень и долгая зима, еще одна весна отшумела, но Рогуле было все равно, она жила в своем, созданном ею самой и никому не известном мире.
Опять быстро шло на закат короткое лето. Темные низкие тучи уже летели над пустыми гулкими поскотинами, потом они стали желто-серыми, сплошными и однажды обсыпали стадо белой снежной крупой.
Рогуля дремала, в большой ее голове чередовались дремысны. Однажды утром ее не выпустили из двора, старуха пришла доить корову в необычное, более позднее время.
Рогуля дремала.
Старуха села на скамеечку, струи молока звякнули о цинковую бадью. Бадья наполнилась на две трети молоком Рогуля спокойно жевала жвачку, она дремала и думала что-то свое, чего никогда никому не узнать.
А старуха подоила Рогулю, прислонилась головой к большому коровьему брюху и с причетом, гонко, тихо завыла:
— Рогулюшка ты моя-а-а! Ой да ты моя ведерница-а-а!
Ой да что это будет-то-о!
Хозяйка затихла как-то враз. Встала, суровая и деловитая, крикнула в сени:
— Гришка! Дьяволенок, беги зови Марусю-то. Да Ваське скажи с Катюшкой, пусть обуваются. И Мишка пусть идет, да Анатошку с Володей ведите. Гришка!
Гришка убежал, топая сапожонками. Старуха унесла молоко, а вскоре вернулась в стойло вместе с кучей ребятишек. Она за рукав подвела к Рогулиной морде старшего, Анатошку:
— Иди, Анатоша, ты первой. Да погладь, обними Рогулю-то! Потом ты, Катюшка, а после Ваське с Мишкой дайте!
Дети по очереди подходили к Рогуле и гладили ее большую звездчатую голову. В самую последнюю очередь к ней поднесли маленькую Марусю, девочка ладошкой испуганно коснулась Рогулиной звездочки и сморщила бровки, и все тихо постояли с минуту.
— Ну, бегите в избу теперече, — сказала бабка Евстолья.
Зажимая рот концом платка, она вместе с ребятишками ушла со двора.