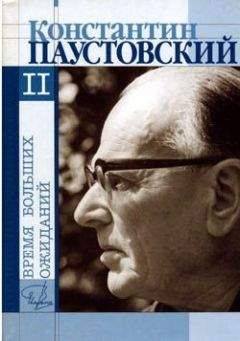Константин Паустовский - Том 1. Романтики. Блистающие облака
Я целовал ее тело. Далеко в горах гулко и мощно сорвался обвал.
— Теперь вы перестанете мучиться. Теперь вы — мой. О, теперь вы не уйдете от меня, потому что от любви смешно и глупо бежать.
Я чувствовал усталость и свежесть.
— Оге-эй! — снова крикнул я протяжно и прислушался. Медленно угасая, прокричало эхо на Бабуган-яйле.
Мы осторожно шли к хижине Горного клуба. Наташа держала меня за руку.
За густыми зарослями колючих кустов был слышен легкий звон. Я крикнул. Кто-то хрипло отозвался. Это были пастухи. Старый татарин отогнал мохнатых овчарок и долго на ломаном языке объяснял нам, как пройти к хижине Горного клуба. Молча, с изумлением посмотрел на Наташу и приложил ладонь ко лбу и к груди. Сбившись в темную груду, спала отара.
Когда мы вышли к хижине Горного клуба, была уже поздняя ночь. Я постучал в стекло.
— Кто там? — спросил за стеной Серединский.
— Я, Максимов, — откройте, надо согреть мою спутницу.
— Вы с кем?
— Увидите.
Серединский долго вставал, что-то уронил, потом тихо отодвинул засов. Пахнуло теплом. В темноте он не узнал Наташу.
— Не кричите от неожиданности, — сказал я ему. — Это — Наташа.
Серединский опешил.
— Наташа, дорогая, сумасшедшая, ночью на Чатыр-Даге с этим шалопаем. Как вы не сорвались в пропасть? Когда вы приехали? Мы думали, что он уже не приедет. Завтра решили возвращаться.
— Где Хатидже? — спросил я.
— Спит. Не шумите. Она устала, горный воздух очень расслабляет. Ну, как в Москве?
— Потом наговоритесь. Надо вскипятить чай.
Мы тихо вошли в низкую комнату. От чугунной печки шел слабый красноватый свет. Пахло можжевельником. У стены на полу спала Хатидже. Лицо у нее было по-детски чисто и спокойно.
Наташа, кутаясь в плащ, села у очага на деревянную скамейку и долго, не слыша вопросов Серединского, смотрела на Хатидже. Потом она позвала меня.
Хатидже вдруг поднялась и стала на колени. Широкая турецкая шаль упала с ее плеч.
— Кто это? — спросила она. — Ты пришел? Я тебя так ждала. Ты, наверное, очень озяб.
— Хатидже, — сказал я. — Я не один. Со мной Наташа.
Хатидже быстро встала.
— Простите, тут так темно, — сказала она, поправляя волосы. — Почему вы не разбудили меня?
Хатидже подошла к Наташе и крепко пожала ее руку.
— У вас ледяные руки. Серединский, дайте вина. Здесь очень холодные ночи, в горах.
Мы выпили по стакану вина. Серединский вскипятил чайник на очаге. Мы пили чай с галетами. Наташа рассказывала о Москве. За запотевшими окнами дрожали звезды.
Потом мы легли на полу и в темноте, в смутном свете угасающих углей долго разговаривали. Хатидже укрыла Нагашу своей шалью. Кричал сверчок, и снова в горах раскатисто сорвался обвал.
В туманный теплый день мы возвратились в рыбачий поселок.
— Как здесь чудесно, — сказала Наташа, не отпуская мою руку. Зайчики от воды загорелись в ее глазах.
— Что это?
— «Vive la vie et la mer», — сказал Серединский. — Смотрите, Наталья Петровна. — Он показал на хату Спиридона. — Это вывеска наших мест. Правда, влипает в глаза? А это — дедушка наш, Спиридон Ярошенко, отставной боцман с клипера «Веста». Когда ты, дед, плавал на «Весте»?
— Еще до царя Александра Второго, в турецкую войну.
— Вот вам, — сказал Серединский, — мы окружены морем и простотой.
— Хорошо, — вздохнула Наташа. — От воздуха, что ли, слипаются глаза, или от полыни, — не знаю.
— Пойдемте, — взяла ее за руку Хатидже. — Пойдемте в дом, вы устали.
Хатидже увела Наташу к себе. Серединский накрывал на стол, я сидел со Спиридоном на ступеньках балкончика, и мы рассуждали о том, какие теперь пошли липовые шкипера-брандахлысты. Я плохо слушал Спиридона. Из комнаты Хатидже доносились голоса, плеск воды.
— Ты гляди на него, — говорил Спиридон и тыкал черным пальцем в белый с синим силуэт «Гурзуфа». — Ты гляди, куда у него нос задран. Шхуна не шхуна, бандура не бандура, одно слово — одесская работа, она под ветром закатывается, рыскливая собака. Под парусами на ней ходить немыслимо.
Из комнаты Хатидже долетали отдельные слова. Говорила Хатидже: «Знаю, конечно…»
Потом был слышен голос Наташи: «Значит, кончено… Понимаю, что страшно глупо… Больше мне не хотелось бы говорить… потом».
— И не надо, — сказала внятно Хатидже. — Разве может быть лучше? Пойдемте.
Они вышли. Мы сели за стол, Спиридон сел с нами.
Наташа смеялась больше всех. Смеялась нервно, слишком поспешно. Там все было решено, в комнате Хатидже. Я это знал теперь наверное. Хатидже была беззаботна. После смерти Винклера я первый раз видел ее такой. Серединский пел, рассказывал глупости, иногда кричал дико: «Эх, здорово!»
Один я был настороже. Казалось, все мы играем комедию и боимся посмотреть друг другу в лицо. Надо решить: или я остаюсь здесь, или завтра уезжаю с Наташей.
Но зачем? С Наташей жить нельзя. Месяц вместе — и потом конец. Есть люди, которые не выносят любви, похожей на часовой механизм, любви, что стучит ежедневно, размеренно и скоро надоедает. Через месяц ее уже надо заводить, потом пружина ослабевает, и заводить надо уже не раз в месяц, а каждый день. Нет, это страшно.
«К черту! — подумал я и раскрошил хлеб. — Довольно думать о том, чего решить нельзя. Обдумать — значит обойти по кругу, вернуться в то же место и начинать сначала. Пусть будет, что будет».
— Что с вами? — спросила Наташа. — Вы не сказали ни слова. И это здесь, в такое утро, когда глупеешь от солнца.
В это время на море лег двойной медленный гром.
— Эге, — сказал радостно Спиридон. — Эскадра на Тендре, боевая стрельба. Даст бог, постреляют, накличут дождик. Садочек совсем пропадает.
Весь день громыхала за горизонтом эскадра. Наташа уснула в качалке на полуслове.
— Устала, — сказала мне Хатидже. — Посмотри, так спят только очень счастливые люди.
Лицо Наташи побледнело. Она дышала ровно и спокойно. Длинные, загнутые, как у детей, ресницы темнили веки, губы были приоткрыты.
— Я полюбила ее, — сказала мне Хатидже и улыбнулась. — Не прячь глаза, я, правда, полюбила ее. Я знаю, что у тебя ничего не прошло, что ты думаешь только о ней. Теперь слушай. Я полюбила тебя еще давно, очень давно, раньше, чем мы встретились здесь, потом была твоя Москва, твои письма, недосказанность, смерть Винклера, и вот ты стал мне самым близким, самым нужным человеком. Вне тебя я не живу. Ты знаешь, я упрямая и ничего не делаю наполовину. Я полна забот и тревог о каждом твоем дне, я часто делаю хорошее людям только потому, что они любят тебя. Мне легче не жить, чем увидеть, как ты мучаешься. — Она отвернулась. — Я поняла, что у тебя в жизни будет много падений и подъемов, ты будешь еще много любить, мучиться: каждая любовь — это новое рождение себя, — но я всегда буду близка тебе, потому что у нас одна цель — твое творчество. Оно принадлежит всем. Все, что ты написал и напишешь, выше той боли, что ты доставляешь мне. Я хочу, чтобы никто не мучился. Мое прошлое и будущее только в тебе. Теперь все ясно.
— Вот Наташа, — сказала она, и голос ее дрогнул. — Я смотрю на нее и на себя и думаю: мать и невеста. Мать и невеста… — повторила она и рассмеялась. — Обеим по двадцать четыре года. Но если ты бросишь писать, бросишь думать и расти как человек, я откажусь от тебя. Значит, так?
— Да. Мне стыдно. Ты так просто решаешь все, над чем я бьюсь очень долго.
— За один день я стала взрослой, — сказала Хатидже, и верхняя губа ее вздрогнула. — А теперь — довольно об этом.
Вечером мы сидели на берегу, на перевернутой шаланде.
— Помните вечер в Братовщине? — спросила Наташа. — Вы рассказали тогда об одной ночной встрече около Тараханкута.
Серединский вспомнил рассказ и тихо пропел:
И, расходясь сквозь сумерки и воды
В печальный путь, далеко от земли,
Мы поняли, что потеряли годы,
Что полюбить друг друга мы могли.
Низко горели звезды — одной ровной чертой. Они качались в прибое, тишина темнела над степью. Над водой она голубела, и Млечный Путь лежал, как белая арка в молчаливом море. В бухте был слышен осторожный плеск.
— Контрабанду сгружают, — прошептал Серединский.
— Сейчас уже полночь, — тихо сказала Хатидже. — Звезды в полночь замедляют свой бег, как говорит дед Спиридон. И слышно, как со сна вздыхают дельфины. Через пять часов вам уже уезжать.
Наташа нашла в темноте мою руку и сжала, как тогда в лесу во время горелок.
— Видите огни? — спросила она и коснулась дыханием моей щеки. — Видите четыре огня?
Я всмотрелся. Правда, огни.
— От Тендры идут к Севастополю. Должно быть, транспорт.
Огни долго мигали, потом утонули в море.