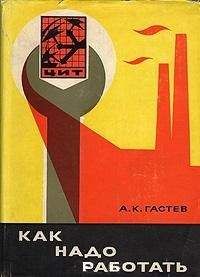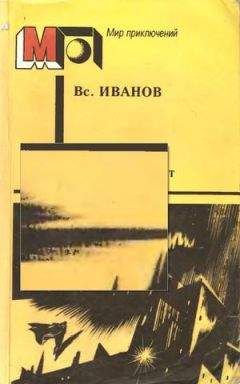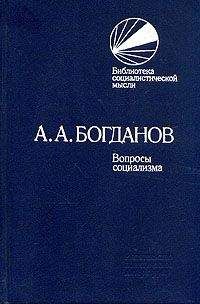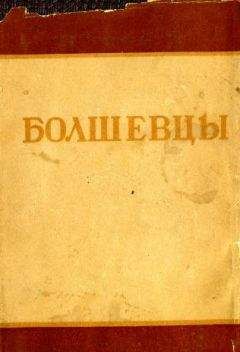Алексей Гастев - Поэзия рабочего удара (сборник)
Беспокойно ходившие фигуры на шоссе остановились, оцепенели. Один кинул догадку, отпустил остроту. Маленькие группы слились в большие. Всклокоченная фигура отделилась от толпы и направилась к воротам. Ворота отворились. Сторожа засуетились.
Завод не говорит с толпой, толпа с ним не спорит, но началось состязание. На той стороне только камень, железо, свет. Здесь люди. Но кажется, что у корпусов есть зовущая душа, есть сердце, которое злит и волнует. Глаза этой каменной глыбы – окна. В них есть нечеловеская сила взгляда. Он не зовет, не манит, он приказывает, повелевает.
– Товарищи, марш от завода по домам, по чайным! В лес!
Это – удар по сердцу толпы, толпы живой, человеческой.
Однако в душе у каждого шевелится беспокойный бес. Надо его убить, надо его изгнать.
Забегали по шоссе. Группа убежала в чайную писать корреспонденцию. В лесу уже собрался стачечный комитет. Молодежь расположилась пикетами по углам кварталов.
А завод разошелся вовсю. Он бешено пляшет свои железные танцы. Он заразил весь квартал металлическим ревом и шепотом. И есть призывная страсть в этом водовороте огня и машины.
– Там люди! – кричит женщина с ребенком.
Она и верит и не верит своим словам… Ей просто хочется туда, к заводу. Ее терзает, дразнит стальная погоня колес, которую она узнает по окнам и чувствует по земле. Ей хочется есть, и в железном гомоне завода ей чудится соблазн работы, хлеба.
– Он работает вхолостую, – отвечает ей сосед, хотя у него тоже есть какие-то сомнения и думы, и он сам впился в освещенные окна.
– А это кто крадется сзади?
– Да никого нет. Тебе, брат, уж кажется. Перекрестись – пройдет.
– Что там за рвань разговаривает со сторожем?
Освещенный завод – магнит.
Он тянет. По воздуху расползлись невидимые щупальцы. Они надоедливо окутывают тех, кто стоит один, кто не говорит, не перекликается.
И как ночные бабочки, то один, то другой бегут на огонь.
Прошла пара напившихся масленщиков.
Женщина кралась из-за леса к сторожу при задних воротах.
Группа слесарей пошла «только наведаться», только разузнать.
Но ворота распахнулись и захлопнулись, и они там.
Стачечный комитет напрягает все силы, но бросается из стороны в сторону.
Сначала думали, что надо выйти всем за шоссе. И пусть тогда каждый штрейкбрехер проходит, пронизанный тысячью глаз. Многие нерешительные дрогнут от этих взглядов. Но оказалось, что в то время, когда толпа была большой и сомкнутой, ни одного человека не проходило, но зато потом в рассыпанных кучках нельзя было уследить за юркими молодцами, и они под прикрытием тысячи незаметно ушли.
Тогда сразу тактику изменили, постановили совсем не ходить к заводу массами. Но и тут опять неожиданность: одиночки, пробиравшиеся под видом разведчиков, часто проходили в завод и оставались там.
Даже люди выдержанные не понимали, что творится с ними.
Стоящие поодиночке чувствуют, как сердце, человеческое сердце, теряет свой такт, его биение топится в железном ходе завода, завод покоряет, наполняет тело дрожью своей стальной работы, останавливает мысль, и все человеческое чувство покорено, взято в плен приступом железного волненья корпусов.
Кажется, вот-вот из-под завода встанет незнакомый, но властный агитатор и железным голосом скажет:
«Идите же! Вы уже в пути, вы уже на повороте, вы скованы по рукам и ногам.
Идите…
Быстрей!..»
Агитатор вынет громадный магнит и сначала поодиночке, а потом массами притянет всех, кто стоит на шоссе.
– Эй, вы! – кричит громко в толпе подмастерье.
– Вот сами же гнали с завода, сами и пошли.
Остановившись, переведя дух и видя молчащую растерянную кучку, он уже смело кричал:
– Кто же пошел? А вот те самые, которые кричали, ораторствовали.
И твердым шагом он направился к воротам завода.
IIIДнем уже разузнали. Все станки стоят. Идут только трансмиссии. Работать надо только слесарям и клепальщикам. Слесарей пришло всего двое. Пятьдесят чернорабочих были отосланы обратно.
По шоссе, в чайных, в парке смеются.
Однако поздно вечером пронесся слух, что едут штрейкбрехеры. Сотня иностранцев и человек двадцать русских клепальщиков.
– Брань! Это – штуки!
– Я от мастера узнал.
– Нашел кого слушать. На пушку это.
На третий день приехали те, которых ждали.
Иностранцы шли рано утром в завод поодиночке.
– Кто вы такие?
– Мы – механики-инструктора.
– Ну да, вы просто прогуляться приехали…
– Мы только будем делать пробы моторов. Мы от заказчика.
Они лгали, и им не верили, но они так чисто были одеты, их лица были такие неродные, что трудно было крикнуть им «изменники» или избить.
Клепальщики из Козлова прямо с Николаевского вокзала прошли пешком. Прямо группой они прошмыгнули в завод.
– Откуда вы?
– А тебе на што?
– Смотри, мы покажем.
– А я не казавши так те ахну, что родную мать не узнаешь.
Затворилась дверь, и хлопнула защелка.
В толпе загуляли слухи. Их – сто. Они быстры, как молния. Есть злые, как змеи, есть гадкие, как жабы. И все они венчаются одной сногсшибательной сплетней:
– В завод прошел Дмитриев, главный наш крикун-оратор.
– Не верьте, не верьте. Это сторожа звонят.
– Чего? Да его видели. Сидит с мастерами в конторе.
– Товарищи! Здесь я, вот, глядите, собственной персоной! – кричит Дмитриев.
Но напившийся вдрызг токарь кричит:
– Дыма без огня не бывает. Разве нынче народ, нынче падаль.
– Гони, гони его! Куда он прет? Вали его в канаву. Он инженера ловит.
– Как ты произносишь? Ловлю? Он меня сам ловит, да я скользкий, как гольян, не даюсь.
А по той стороне шоссе, за канавой, прошла в завод группа человек в тридцать забастовщиков. Они шли напролом. Они шли работать.
На шоссе показался пристав.
IV«Вот это жест!» – думал Григорьев, восхищаясь сам собой, когда мчался по Литейному в совет съездов.
Там сегодня в честь Григорьева банкет.
Льют бархатный матовый свет стильные фонари подъезда. Плавно поднимаются и опускаются лифты. Дамские духи рвутся на улицу и заполняют квартал. Хор автомобилей клокочет, как прелюдия к музыке акций и дивидендов. Трамваи на Литейном заметно замедляли движение, направляя говор улицы только к одному дому совета съездов. Казалось, что по городу всюду шел перезвон и звонили только о золоте, о прибыли, о силе, о таланте Григорьева.
И когда вся улица прониклась этим торжественным переливом волнения и звука, потолки зала вспыхнули небывалой белизной и яркостью, улица присмирела, и из окон сразу, без настраивания хлынула на улицу стремительная буря оркестра. Гремела новая симфония «Гимн индустрии».
Это было воплощение мирового промышленного рокота под едва заметный аккомпанемент контрабасов, дававших иллюзию непрерывной работы мотора. Мотор то низко, настойчиво и терпеливо отсчитывал свои удары, и оркестр принижал свои железные бравады, точно внизу под землею тысячи титанов-машин бурят неимоверные толщи; то вдруг молоты подымутся кверху и там, за облаками, высоко поют свою песню самозабвенья, а оркестр, это – ликующее человечество, вырвавшееся из подземелья и смело пославшее машины в небо, к планетам, звездам и млечным путям. Казалось, что люди рвутся от земли, она тесна, она вся уже взята молотом и машиной.
Ликования оркестра перешли в крик и трепет тучи аэропланов, звуки уже плыли не в зале, а в незримых высях, сам оркестр потерялся для зрителя, и вот тогда-то на открытую эстраду вышла знаменитая итальянка Элиза Верньяньини и в воздухе исполнила балет «Греза аэро». Это был танец в полете. Элиза начинала земными плясками с земною женскою страстью. Блиставшая жемчугами и золотом, она срывала свои одежды, поражая залу стихийной исступленностью, обнажилась и, пережив все, что делает людей счастливыми внизу, ринулась в воздух, закружилася, плыла по небу, разбивала облака, осмеивала и развенчивала высочайшие горы земли и создания, и, улыбнувшись в последний раз океанам, ушла далеко от земли и потерялась, вся воздушная и шумная, невесомая и быстрая, и оттуда с высот неземных и не небесных звала смотрящие на нее толпы, города и миры.
Зала не выдержала. Полетели цветы, котелки, наполненные золотом, бриллианты.
Сверху спустился букет цветов в полурост Элизы. Она его поймала на лету, откланялась, потом спрыгнула вместе с ним с высоты и на глазах тысячи гостей передала Григорьеву.
Загремели аплодисменты. Это была овация Элизе, но через минуту публика уже ее забыла, и хлопки выросли в манифестацию Григорьеву.
Зал поднялся, позабыл симфонию, Элизу, ее заоблачные танцы.
Зал кричал и хлопал ему одному, кумиру дивиденда, золота. А Григорьев стоял спокойный и холодный, как черная статуя. Элиза, шумная и радостная, наслаждаясь его закаленной силой, спрашивала: «Неужели и теперь вы не потрясены?»