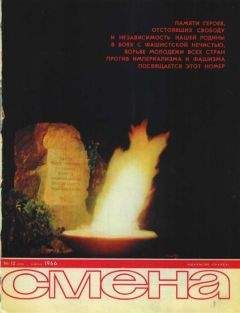Борис Горбатов - Мое поколение
«Да, я еще плохая, — горько думала о себе Юлька. — Не будет из меня коммунистки».
Она вспомнила: третьего дня поздно кончилась репетиция в группе, и ей одной пришлось ночью идти домой. Разыгралась метель, колкий снег крутился по улицам. Перескакивая с камня на камень, дрожа от холода и страха, бежала, торопилась Юлька, и вдруг мелькнула мысль: «А что, если бог есть? И это он наказывает? Ведь столько верили в него! Вдруг он есть?»
И ей, маленькой Юльке, стало жутко: вдруг это на нее — за детскую группу, за безбожие, за неверие, — за все обрушится метелью и снегом этот страшный, загадочный и, может быть, существующий бог!
— Боже! — прошептала она. — Если ты есть…
И ей стало стыдно за себя. Ведь знает же, что нет никакого бога, — еще недавно объясняли в группе.
Мокрая и напуганная прибегает Юлька домой.
«Нет, не будет из меня коммунистки!» — глотает она слезы и снимает картину со стены.
— Все красоту наводишь? — раздался над ее ухом веселый голос.
Юлька испуганно оборачивается и летит со стула. Кто-то ловит ее на лету и ставит на пол.
— Оп-ля! — говорит он весело, и Юлька улыбается ему сквозь слезы.
Это Максим Петрович Марченко — сосед.
— Красоту наводишь, голубок? — смеется Максим Петрович, а у Юльки опять подкатывается комок к горлу.
— Нет, — качает она отрицательно и грустно головой. — Я знаю: это буржуазно.
— Что-о? — Максим Петрович даже приседает.
Потом он хохочет, долго, звонко, становится красным, как кувшинчик, что стоит на окошке с подснежниками. Седые волосы плещутся над его красным лицом. А Юлька, плача, рассказывает о том, что произошло, и чем больше говорит, тем больше плачет.
Уже не смеется Максим Петрович, а быстро выбегает из комнаты и через минуту появляется снова, а в руках у него большая картина «Море в бурю», которую Юлька видела у Максима Петровича над кроватью.
— Вот, повесь у себя, — говорит Максим Петрович, — и вытри слезы.
Но Юлька машет отрицательно головой:
— Нет, не надо!
Тогда Максим Петрович сам влезает на стул.
— Жизнь должна быть красивой, — говорит он весело, — и девочки не должны плакать: глаза становятся красными.
Юлька робко подходит к Максиму Петровичу:
— А это не буржуазно?
Она знает: Максим Петрович Марченко — старый большевик, он — секретарь горкома партии, он скажет правильно. Робкая надежда звучит в ее вопросе, а с чисто вымытого пола тянутся к ней солнечные нити лучей.
Максим Петрович вколачивает последний гвоздь в стену, и картина уже висит ровно.
Семчик и Алеша прибегают в школу, когда во всех классах идут уроки. Напряженная тишина пустынного коридора тяжело падает на ребят. Они останавливаются у входа и затаивают дыхание. Потом Алеша, осторожно ступая и озираясь по сторонам, начинает подыматься по лестнице на второй этаж. Он держится за перила, он старается неслышно ступать, тяжелые сапоги угнетают его. Семчик идет за Алешей, все время оправляя кобуру нагана. Обмотка волочится по полу. Так они проходят лестницу, коридор, в конце его останавливаются.
— Надо вызвать его из класса, — говорит Алеша, — и положить его на месте.
— Нет, — качает головой Семчик, — нужно по закону. Мы должны его взять и отвести куда-нибудь. Там устроим ему суд по обвинению в контрреволюции. Я — судья. Ты — обвинитель. Можно завязать ему глаза. Все по закону.
— Нет, нет! Убить, как собаку! — горячится Алеша. — Таких, как он, нужно уничтожать. Дай мне наган! Семчик! Дай мне наган! Как я его ненавижу! Как собаку!
Он никогда еще раньше не знал такой яростной ненависти. Как и все ребята с Заводской улицы, он ненавидел скаутов и гимназистов. Это были исконные враги. Он отчаянно дрался с ними, но вряд ли мог отчетливо вспомнить хоть одно лицо противника.
Все это была безличная ненависть. Веточки гимназического герба, широкополую шляпу бойскаута, золотые погоны офицера, пузо хозяина — вот что он ненавидел. Это была глухая, исподлобья, ненависть парня с Заводской улицы.
Но сейчас Алеша впервые ненавидел отдельное лицо, и этим лицом был Ковалев. Он ненавидел и его голос, и его нос, и его походку. В Ковалеве совмещались и шляпа бойскаута, и погоны офицера, и пузо хозяина. Все большие и малые ненависти парня с Заводской улицы слились сейчас в одну — в страшную, взрослую ненависть. И если бы Алеша мог думать о ней, он вдруг увидел бы, что стал старше и злее.
Но он не думал о ненависти, — он ненавидел.
Я хочу, чтоб вы запомнили, что мой ровесник Алеша узнал первую ненависть раньше, чем первую любовь.
Довоенный мальчишка избрал бы иные пути мести: облил бы врагу штаны чернилами или напустил бы тараканов в карманы, Алеша решил убить Ковалева, и это было меньшее, на что была способна его ненависть: убить из нагана, как убивают врага..
Но Семчик не соглашался на это. Он хотел, чтобы был суд и законный приговор. Они говорили горячим шепотом, перебивая друг друга, как вдруг оглушительный и неожиданный звонок загремел по гулким коридорам школы. Школа сразу наполнилась шумом. Шум родился, как звонок, мгновенно и неожиданно и сразу заполнил все здание школы, сделал его тесным и приземистым. Вокруг ребят забурлила толпа. Она толкала их, не подозревая об их кровавых замыслах, и когда Алеша, отступая под натиском мчащейся по коридору лавины школьников, окликнул Семчика, того уже не было вблизи. Зато рядом стоял Ковалев. Нагана не было у Алеши. А руки? А кулаки? Он рванулся к Ковалеву.
Кто-то крепко схватил его за плечи и встряхнул.
Алеша обернулся. Парень на костылях, которого он уже где-то видел, стоял перед ним.
— Зачем? — спросил парень тихо и смолк, ожидая ответа.
Алеша ничего не ответил.
— Ну, пойдем со мной, — сказал тогда парень и взял Алешу об руку.
— Пусти! — рванулся тот. — Не твое дело.
— Нет, мое! Подраться успеешь. Ты меня проводи домой. У меня нога болит, я один не дойду.
Когда они вдвоем вышли из школы, Рябинин сказал:
— Ну, браток, теперь расскажи о себе. Ты кто?
— Человек. Какое тебе дело?
— Мне до всего дело. Я сам ерш, так что ты не ершись. Давай по-дружески.
А кругом уже ползли сумерки. Сегодня они были мутные и серые, словно пар из прачечной. И опять Рябинин сидел в сквере, — только не девочка с косой, а вихрастый парень с подбитым глазом рассказывал ему о себе:
— Мне скоро пятнадцать лет. Можно считать, что уже все пятнадцать. Я оттого и худой расту. А может, порода у нас такая. Отец тоже худющий. Отец на Фарке работает. Знаете завод Фарке? Гвозди и проволоку вырабатывают. Ну, теперь, конечно, стоит завод, а мы, заводские, помираем с голоду. Отец сторожем там, грачей караулит. А сам токарь хороший. Вот! Только хворает он все. А я курьером был. Тоже работа! В совнархозе — курьером, а теперь — безработный. А после обеда учусь. Зовут меня, забыл я вам сказать, Алешей. Фамилия мне — Гайдаш.
— Я знаю, что фамилия тебе Гайдаш, — засмеялся Рябинин. — И что зовут Алешей, знаю: Алеша-ша.
— Чего смеетесь зря? Я ведь тоже не маленький. Это еще, кто кого отдует, мы поглядим.
— Где мне с тобой драться, Алеша Гайдаш! У меня вот, — он взметнул костыли. Потом продолжал тихо и дружески: — А мне фамилия Рябинин Степан. Идет двадцать пятый год. Отца у меня нет: на германской убили. Самарские мы: Самара — качай воду. Вот и качали. И я «в гражданскую качал воду, добывал себе свободу», — как в песне поется. Да!
— У меня на фронте тоже друг один был. Не встречали?
— Как звать его?
— Матвей Грачев. Мы его Мотька Грач звали.
— Нет, не встречал.
— Конечно, фронт большой.
— Да, порядочный.
— Вы комсомолец, товарищ?
— Непременно. А ты?
— Нет! — Подумав, добавил нерешительно: — У меня характер не подойдет.
Помолчали.
— Учишься, я слышал, хорошо?
— Стараюсь.
— Зачем?
— Чего — зачем?
— А зачем учишься хорошо?
Алексей посмотрел на него искоса и ответил тихо:
— Нужно.
— Да-да! Вот у нас в эскадроне был чудак. Как увидит книжку или газету, так и трясется: дай почитать. Всю прочтет. О пчелах — даешь. О луне — даешь. Читал. Внимательно эдак! Понимаешь? Спросим, бывало: «Ну зачем тебе это?» А он: «Да так, интересно все». По-моему, он и сам не знал, на что ему эти знания нужны, а просто жаден был. А убили его зря. Ездил он верхом плохо, с коня слетел, его и убили. Д-да! — И быстро: — Ты тоже вот так?
— Нет! — упрямо ответил Алеша. — Я знаю. Мне нужно.
— Ага! Понимаю. Ну что ж!.. Ты за что Ковалева-то не любишь?
— Он враг!
— Так ты его за это?
— А как бы ты думал?
— Я бы иначе думал. Ячейка есть, наробраз, комсомол.
— Мне некогда ходить.
— Ты в детскую группу запишешься?
— Не знаю. У меня характер неподходящий.
— Да! Такой молодой — и уже характер!
Опять искоса посмотрел Алеша на Рябинина, но ничего не возразил, а спросил только:
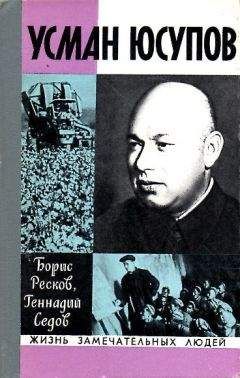
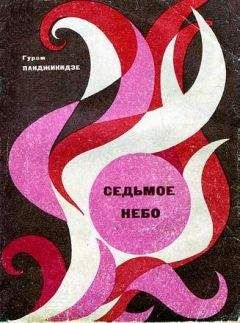

![Елена Сазанович - Смертоносная чаша [Все дурное ночи]](/uploads/posts/books/154688/154688.jpg)