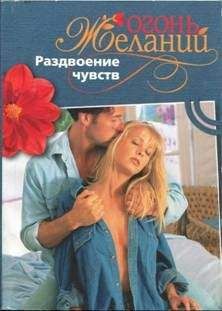Евгений Наумов - Черная радуга
— Пугнуло его и, наверное, всерьез.
— Да, нашего брата надо пугнуть, тогда образумится.
Долго не затихали ночные разговоры. А потом короткое забытье и — «Подъем!» Режим был организован как-то глупо: поднимали в шесть утра, а завтрак приносили аж в полдевятого. Туалет, умывание, заправка коек, уборка палат — от силы час. Потом медсестра выдавала утренние порционы химии — еще минут пятнадцать. Ну а остальное время шатались по коридору, курили в подъезде, мрачно молчали. Кое-кто не выдерживал, доставал из холодильников свои запасы в мешочках, подкреплялся в столовой перед завтраком. А таким, как Матвей, которых чуть не голышом доставили сюда, что делать? У него даже бритвы и мыла не было. Утром, когда уже появилось желание привести себя в порядок, прошла водобоязнь (один из этапов возвращения к жизни), он допросил алкаша поинтеллигентнее:
— Друг, одолжи бритву.
Тот замычал, доставая коробку:
— Вообще-то я свою бритву никому не даю, это негигиенично. В первый и последний раз.
Матвей швырнул коробку ему на койку.
— А валяться в лужах, в собственной блевотине, пить в подворотнях из одного горла или стакана — это, считаешь, гигиенично?
Вокруг одобрительно загоготали. Интеллигент побагровел:
— Я не валялся в лужах!
— Да? А как ты сюда попал? Из ванны тебя вытащили? Ну ничего, еще наваляешься… Гигиенист!
Бритву ему дал шофер Саша с оторванным ногтем. Матвей выскоблил щеки, умылся, причесался и почувствовал, что становится на рельсы. Подошел к старосте Мише, который ковылял на костылях (где-то вывихнул ногу, Матвей сильно подозревал, что по рецепту того безымянного парня, закусывавшего вишенками) и потому на работу не ходил, гужевался в палате, следил за порядком.
— Кто этот гигиенист?
— Этот? — Миша посмотрел. — Подонок. Вконец измордовал жену и детей. На работе — примерный исполнитель, а вечером напивался, приходил домой, поднимал всех, заставлял мыть себе ноги, издевался, бил жену пяткой в грудь, одного ребенка довел до заикания и нервных припадков, другой стал мочиться ночью. А жена все терпела, но соседи не выдержали, спровадили его сюда.
— Тьфу! А я еще хотел его бритвой попользоваться… Чего ж он здесь? В элтэпэ его, гада, без срока давности!
— Так и хотели, да он трижды вешался, решили понаблюдать.
— Почему не повесился?
— А он веревку под грудь пропускает и под мышки — так и висит.
— Научили бы, если неграмотный. Веревку поправили бы, табуретку из-под копыт вышибли бы. Ишь ты, суицид имитирует. Да он здоровее нас всех! Хитрый Митрий: умер, а глядит.
У стенки шел разговор на интересную тему.
— Вот, об алкоголиках пишут, — желчно говорил прапорщик Дима, у которого глаза как разъехались в пьяном виде, так уже и в трезвой не съезжались, смотрели в разные стороны, как у кролика. Точнее, бывший прапорщик — известие о его увольнении из армии пришло, когда он попал в нарко, и воспринял он его спокойно, махнув рукой: «Отыгрались на прапоре! А вон командир соседнего дивизиона, подполковник, полный срок инкогнито тут отбыл, привратником у двери сидел — и тут нашли ему дело по способностям, — и ничего. После выписки надел мундир и так в полной парадной обошел палаты, со всеми за руку прощался. Я ему говорю: а я так запросто с тобой здоровался, даже послал однажды. Он смеется: ты сегодня меня послал, а я всегда посылать буду…»
Алкаши читали книги, но, как правило, простую доходчивую литературу: про войну, про шпионов и про своих же братьев обнаженных. Последнее они иногда горячо обсуждали. Вот и сейчас прапор Дима процитировал:
— «Больной Д., 42 лет, пьет политуру…» Чем они хотят меня убедить? Политуру я никогда в жизни не пил. Ты про меня напиши, почему я дошел до жизни такой? А все она, стерва, — приподнимаясь на локте, он аж забрызгал слюной. — Сразу, не разобравшись, побежала жаловаться к начальству! А того не сообразила, дура, что у начальства разговор короткий: в приказ! И сунули меня из большого города в тундру комаров кормить…
В тундре или в тайге Дима допился до «белочки», полез на сосну и стал оттуда палить из личного оружия по «летящим самолетам противника». Вопил: «Воздух!» Ну, и сняли его…
Теперь он все не мог успокоиться:
— Больной Д., 42 лет, пьет политуру… Да пускай он захлебнется! Вот я почему здесь кукую, кто скажет?
— Читал я недавно детектив иностранный, — тоже приподнялся на локте тракторист Чусин, который на своем Т-150 пытался устроить гонки по трассе с какими-то «Жигулями», да спьяну не разобрал, что «Жигули» с синей мигалкой и полоской на борту — «раковая шейка». — Там описывается, как гангстеры похищают людей: прижмут в уголке, двое держат за руки, а третий вольет в пасть бутылку — и готов, можно везти куда угодно — пьяный, отключился. И связывать не надо. Думаю: меня бы так похитили…
— Кому ты нужен? — скупо усмехнулся лесник Сушков — мрачный, неразговорчивый детина с густыми сросшимися бровями. — Чтобы тут похищения устраивать, им пришлось бы с ящиками за людьми бегать.
Обычно он молча сидел в углу, клешнястые, потрескавшиеся от тяжелой работы руки его сложены на коленях, черные, глубоко запавшие глаза уставлены в одну точку. Но и он не выдержал» как-то поведал о себе.
Его начальник, лесничий Вшиян, рабская душонка и первый лизоблюд в районе, всячески ублажал начальство: возил узко сбитые группки «охотничков» в тирольских шляпах с перышками по лучшим угодьям, чтобы они отстреляли кабанов, лосей, косуль, отвели душу на привольных плесах. И даже лично привязывал леской уток к камышам, чтобы не улетали под высоким дулом. Посылал «нужных людей» с записочками к лесникам, чтобы отпустили им красного леса для строительства двухэтажных махин с гаражами, сараями и другими надворными постройками; районный центр Лохица быстро разрастался. Все лесники отпускали лес по записочкам, а Сушков взбунтовался и тесно сбитые группки «охотничков» в свои угодья тоже не пускал. Так он «откололся, противопоставил себя коллективу», как было сказано в формулировке его увольнения. И куда потом ни ездил лесник, в какие высокие двери ни стучался своими корявыми кулаками, так ничего и не добился. Качали головами, цокали сочувственно языками, обещали «пресечь и оградить», но не только не пресекали и не ограждали, а все новые и новые силы подключались к его травле, в последние дни в погребе сидел.
Не выдержало тогда у бесхитростного лесника ретивое, ахнул он два стакана первача, хотя до этого пил мало, разве что по большим праздникам, взял верную двустволку и подстерег лизоблюда на просеке. Наставил ружье: «Молись, гнида!»
— Я тогда так и решил: застрелю, — рассказывал он, поблескивая глубокими глазами, и Матвей верил — такой слов на ветер не бросает, уготована была Вшияну бесславная точка. — Рука не дрогнула бы. Пусть хоть от одного земля очистится. И тут он сделал такое, что у меня ружье опустилось…
— Стал на колени?
— Какое! У него ноги от страха не гнулись, шевельнуться не мог — стоит и глаза вытаращил, белые, ровно у мороженого судака. Прохватила его медвежья болезнь. Ну как я мог выстрелить? Махнул я рукой, закинул ружье на плечо — и домой. Только сел, опрокинул еще стакан, уже подлетает одна машина, вторая — виу, виу! Тут правоохранители быстро среагировали. Ну и отправили… сначала в трезварий, потом в суд, потом сюда. Надрали с меня штрафов, как лыка с дерева, что ж, теперь ребятишки наголодаются, будут помнить батьку-дурня, который правду искал. Ничего, будут, как мы в войну, картошку да капусту жевать, а я тут — рыбкин суп хлебать. Зато наука. Наука дорогого стоит…
— А коллектив… что же, не поддержал?
— Пора уж это слово дурацкое забыть. Где ты коллективы видел. Прихлебатели и молчащие… в тряпочку. Поддерживают обычно того, кто крепко стоит на ногах, — опять слабо улыбнулся своему каламбуру, который в этом случае получился двусмысленным. — Хорошо, хоть срок не дали, рука у судьи не поднялась, и так два неправедных приговора вынес, когда отказал мне в восстановлении на работе. Да еще хватило наглости после суда мне сказать: «Пойми, если бы я тебя восстановил, то завтра самому бы пришлось работу искать…»
— А прокурор?
— В кусты сховался, где ж ему быть? Только завидит в окно, что я иду, сразу тикать: «На совещание, бегу, бегу, некогда!»
Разъяренные, растравленные бесплодными разговорами о водке и своих несчастьях, шли в курилку. Строго говоря, курилки в нарко не было — не предусмотрели, хотя алкаши курят жадно и помногу. И в этом была какая-то загадка, вопрос: создать дополнительный резерв для наказаний или для дополнительной травли алкашей? Курили в подъезде около выхода, где был страшный колотун — зима, не ягодки собирать, и в туалете, где было то же самое, — тут открывали настежь окно, чтобы дым не шел в корпус. В обоих местах курить было строго запрещено, висели соответствующие таблички с угрозами — кого застукают, наказывали серой. Однако из обоих мест к вечеру выносили окурки целыми урнами. А тех, которые лежали в наблюдательной палате в солдатском белье, и вовсе в подъезд не выпускали, где же еще им курить, коли уши пухнут? Похметологи и дежурные мордовороты делали вид, будто им ничего не известно о курении в запрещенных местах, и время от времени под плохое настроение врывались туда с криком: «Кто тут курит? Сурмач, Соболев, по два кубика!» Алкаши торопливо и покорно прятали тлеющие окурки в рукава и проскальзывали мимо разъяренного эскулапа — забитый, бесправный народ. А кто, обжигаясь, гасил окурок в ладони и незаметно спускал под ноги.