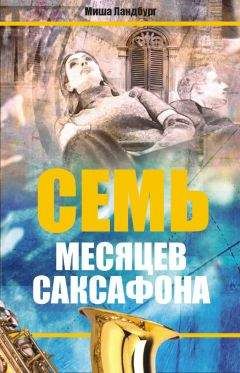Агния Кузнецова (Маркова) - Честное комсомольское
– Говорят, надежды нет.
Александр Александрович нетерпеливо сделал несколько шагов в гору. Павлов пошел за ним, стараясь не отставать.
– Думали ли мы, что заплатим такой дорогой ценой за пожар? – горячо заговорил Александр Александрович. – Кто-то неосторожно курил или что-то делал с огнем, и вот за эту неосторожность должен заплатить жизнью лучший из лучших. Страшно, трагично, горько! Я бы с радостью пострадал вместо него. Жизнь прожита. Плакать некому.
– У вас нет семьи? – спросил Павлов, хотя и знал, что Бахметьев одинок.
– Бобыль! – Александр Александрович помолчал, встретился с умными, добрыми глазами Павлова, и ему вдруг захотелось чуточку сказать о себе. – Ту, которая могла бы составить мое счастье, я потерял еще в юности.
– И не встречали ее больше?
– Встретил. Через двадцать лет. Получилось как в «Евгении Онегине»: «Я вас люблю (к чему лукавить?), но я другому отдана; я буду век ему верна», – невесело продекламировал Александр Александрович. – У нее муж и сын. Главное – сын. Пути наши оказались разными. Посмотрели друг на друга, погрустили, поплакали о невозможном и разошлись. – Бахметьев сказал это с такой болью, что Павлов отвел глаза в сторону, боясь увидеть слезы учителя.
– Значит, плакать-то о вас все же есть кому, – сказал он, намереваясь хоть немного утешить Александра Александровича.
Тот молча, медленно шел вперед и смотрел вдаль, туда, где темнела дорога к районному центру, по которой ночью, тайно от него, уехала Екатерина Ермолаевна.
В эту минуту Бахметьев и Павлов подумали об одном и том же, и Борис Михайлович высказал вслух свою мысль:
– Мне кажется, что вот такие жизненные обстоятельства учителю легче переносить, чем людям других профессий. Около вас все время молодежь, чуткая, неиспорченная. И знаете, даже такое чувство, как ваше чувство к той женщине, многому может научить ваших учеников, если они что-нибудь знают…
– Я думаю, что они кое-что знают. Они всегда знают больше, чем мы думаем. Саша Коновалов как-то встретил у меня Екатерину Ермолаевну, и я видел, что он многое понял. Он был удивительно чуткий мальчик, умел понимать с полуслова… Вот видите, – грустно усмехнулся Александр Александрович, – я уже говорю о нем в прошлом!..
Они подошли к забору больницы, прошли по аллейке, посыпанной желтым песком.
У крыльца больницы толпились ученики Александра Александровича.
Их было очень много. Они расступились, пропуская взрослых.
На ступеньке, закрыв лицо руками, рыдала Стеша.
Александр Александрович молча снял шапку. Обнажили головы его ученики и Борис Михайлович Павлов.
В глубоком раздумье
Закрытый гроб стоял посередине школьного зала. Венки с траурными лентами, букеты срезанных домашних цветов и мягкие ветки пахучей пихты скрывали стол, и казалось – гроб стоит на венках.
Рядом с гробом – скамья, и на ней, опустив на колени обессиленные руки, склонив голову под тяжестью непереносимого горя, молчалива и недвижима, как изваяние, как сама скорбь, – мать. Около нее Алевтина Илларионовна с багровым, распухшим от слез лицом. В зале, заполненном учениками, учителями и жителями Погорюя, мертвая тишина. Страшная тишина. Такой тишины никогда со дня основания школы здесь не бывало.
И тот, кто теперь лежал в гробу посреди этого зала, бесчувственный и равнодушный ко всему живому, десять лет назад бегал здесь отчаянным малышом, потом, подражая старшим и сдерживая желание пошалить, ходил серьезным подростком в пионерском галстуке, а затем и юношей комсомольцем, к голосу которого так внимательно прислушивались товарищи.
Как же страшно было поверить тому, что в этом закрытом гробу, обитом красной материей, лежит Саша Коновалов, что он в расцвете своей молодости безвозвратно ушел из жизни!
И все стояли молча, потрясенные несчастьем.
В дальнем углу пряталась за спинами людей Стеша. Простоволосая, в расстегнутом пальто, с покрасневшими от бессонницы и слез глазами, она боялась выйти из своего укрытия, чтобы люди не поняли, не увидели, как ее надломило тяжкое горе.
С траурными повязками на руках в почетном карауле у гроба стояли Сережка, Миша и Ваня. Губы Сережки кривились, из-под опухших ресниц то и дело скатывались слезинки. Миша плакал открыто, смахивая слезы зажатым в кулаке платком. Он пытался представить, что бы случилось сейчас, если бы произошло чудо и его друг, которого он так горько оплакивает, оказался жив.
Ваня не плакал, он стоял в напряженной позе, прижав вытянутые вдоль тела руки. Смерть Саши еще больше убедила его в необходимости посвятить жизнь свою медицине. С самонадеянностью, свойственной молодости, он думал о том, что, будь он врачом, Саша, конечно, не умер бы.
Церемонией похорон почему-то распоряжалась Зина. Она не раз видела, как это делала ее мать – организатор всех похорон в Погорюе. Рядом с матерью Саши Зина из каких-то соображений посадила безвольную от слез Алевтину Илларионовну и в почетный караул в первую очередь поставила ближайших друзей Саши.
Зина стояла с траурной повязкой в руках и глазами искала Стешу. Александр Александрович понял ее мысль. Он взял у Зины повязку и шагнул в расступившуюся толпу, направляясь в тот угол, где он давно заметил Стешу.
– Возьми себя в руки и встань в почетный караул! – сказал он Стеше шепотом, повязывая траурную ленту на ее руку и ласково обнимая ее за плечи.
По залу пробежал легкий шепот. Все знали, что Стеша дружила с Сашей. Но девушка уже не видела ни школьного зала, ни людей, собравшихся в нем. Она остановилась там, где поставил ее Александр Александрович, подняла кверху измученное похудевшее до неузнаваемости лицо с незнакомыми всем, большими глазами. На нее невозможно было смотреть без слез.
К гробу подошла Матрена Елизаровна. Рыжая жеребковая доха, наброшенная на ее плечи, открывала забинтованную руку, обожженную на пожаре, и блестящие кружочки орденов и медалей, покрывающих грудь. На плечах у нее лежал пушистый голубоватый платок.
– Товарищи! – сказала она. Голос ее в мертвой тишине показался слишком громким, даже бестактно громким. – Мы сегодня собрались здесь, чтобы проводить в последний путь нашего замечательного комсомольца Сашу Коновалова, героически погибшего на пожаре…
Она неожиданно всхлипнула и, нисколько не стесняясь своих слез, не спеша левой рукой достала из кармана красной вязаной кофточки платок, вытерла глаза и лицо и продолжала:
– Мы, взрослые, знаем его вот с таких лет… – Она опустила руку с платком, показывая полметра от пола. – И не дадут мне соврать наши односельчане, если я скажу молодежи нашей: жизнь Саши Коновалова – пример вам всем…
Матрена Елизаровна помолчала, точно хотела еще что-то сказать, потом опять всхлипнула, махнула рукой: дескать, разве скажешь все, что накопилось на сердце? И отошла к окну.
Ничего этого не видела и не слышала Стеша. Она находилась в состоянии какого-то тяжелого полузабытья. А когда менялся почетный караул, ей стало совсем плохо, и ее вывели в соседний класс.
От десятиклассников на гражданской панихиде выступал Ваня. Хороший оратор, умеющий владеть собой человек, он на этот раз долго молчал, опустив голову и разминая в руках меховую шапку. Говорить он начал так же не поднимая головы, тихо и невнятно:
– Мы клянемся тебе, наш дорогой товарищ Саша Коновалов, что никогда не забудем тебя! Твоя небольшая, но честная жизнь, жизнь настоящего комсомольца, будет для нас примером… – Он долго собирался с мыслями и пытался подавить волнение, от которого дрожал голос и комок подступал к горлу. – Ты встал в один ряд с героями-комсомольцами: с Зоей Космодемьянской, Сашей Чекалиным, Олегом Кошевым. На твою парту в нашем десятом классе будут садиться только те, кто удостоится чести сидеть там, где сидел ты…
Зина дала невидимую команду выносить гроб. В коридоре оркестр заиграл траурный марш. Гроб подняли Александр Александрович, Федор Тимофеевич, Сережка и Алексей Петрович. Все зашевелились. Алевтина Илларионовна взяла под руку Прасковью Семеновну, но та вырвалась, забилась пойманной птицей и потеряла сознание.
Пока выносили гроб и ставили его на покрытый коврами грузовик, Алевтина Илларионовна и школьный врач приводили в сознание Сашину мать.
– И чего стараетесь, милые? – участливо склонившись над несчастной женщиной, сказала Саламатиха. – Лучше же ей без памяти-то! Чем дольше, тем лучше.
Зина подошла к Мише и сунула ему в руки большой пучок пихтовых веток.
– Иди сразу за школьным знаменем, отламывай по ветке и бросай, бросай на дорогу.
И он шел за знаменем, перед парами девочек, несших венки, плакал, отламывал ветки и неизвестно зачем бросал их на дорогу.
А Зина все суетилась, давала команду остановиться то около школы, то около дома, где жил Саша.
Она ни на минуту не могла остаться без дела, иначе бы разревелась и успокоиться уже бы не смогла.