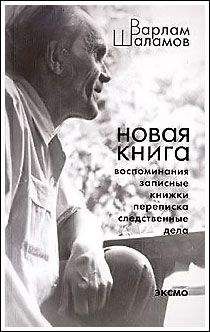Варлам Шаламов - Четвертая Вологда
Тут же Алешка требовал – посетить кладбище, прикоснуться к могиле и выйти на дорогу, где ждут товарищи испытуемого.
Я эти ночные проверки переносил легко.
Именно с Алешкой я был и в театре – на «Разбойниках», на «Эрнани». Театр был нетопленый, и мы на галерке, застывая в каких-то кацавейках родительских, боялись пропустить хоть слово из дымящихся белым паром актерских уст Карла Моора.
Сережа Воропанов был третьим нашим другом в этих литературно-спиритических экскурсиях.
Учились дружно мы всего года два учебных. Но уже на последнем году было известно, что Алеша болен и в школе учиться не будет. Я пришел к нему домой. Алешка хотя двигался хорошо – не лежал, а глаза его блестели, щеки были восковыми. Я рассказал школьные новости. Помахал ему рукой с порога.
А потом я узнал, что Алешка умер. Мать долго лежала – не туберкулез, а какое-то нервное потрясение свалило ее с ног. Но у Веселовских я больше не бывал.
Через год после смерти Алешки я встретил его отца, профессора истории Алексея Алексеевича Веселовского, на улице. Отец был вроде бодрее, чем при нашей последней встрече. Оба они – и профессор, и его жена – были страстные курильщики, курильщиками и остались. Алексей Алексеевич любил махорочные трубки. Закуривая ее, закашлялся.
– Ну, как вы живете, Алексей Алексеевич?
– Да так же, все вертим блюдечки. Приходите. Мы ведь с Алексеем говорим каждый день. И вы поговорите.
Но я не пришел к Веселовским.
* * *В каких отношениях был мой отец с Богом? Этот вопрос занимал меня и в юности. Уж если он выбрал себе такую претенциозную, такую неблагодарную профессию, то должно же быть наитие, «транс», в который впадал, например, Александр Введенский – из близко виденных мной церковных ораторов. Но Введенский был человек не духовного звания; сын директора Витебской гимназии, Введенский принял священнический сан чуть ли не во время войны – первой мировой. А отец был потомственным профессионалом.
Я часто наблюдал, как молится отец, особенно в то время, когда после очередного «уплотнения» мой сундук передвигали из проходной в комнату отца с матерью, а сестры выезжали в проходную на мое место.
Отец молился всегда очень мало, кратко – минуту, не больше, что-то шептал привычное, пальцы обеих рук не прекращали свой вечный, бешеный бег, ладони вращались, кружились в обычном своем вращении, и было видно, что светские мысли не оставляли его мозг. Это – молитва на ночь.
Никаких утренних молитв, да еще громких, дома не видел я никогда. И почти не слыхал, ни раньше, то есть во время спокойной жизни, ни позже.
Возможно, когда-нибудь он и молился. Возможно, что он считал, что его служба в церкви – достаточное свидетельство его смирения, усердия. Возможно.
Дома, во всяком случае, он сообщал Богу в двух словах собственные проблемы, а перед сном и вовсе не мог оторваться от мирских дневных мыслей.
Молитва – теоретическое занятие. Психологическое настроение, не спокойствие – вроде позы йога. Йога в отце не было…
Отец мой жил жизнью культурного русского интеллигента. Летом вся семья жила в деревне, в шести верстах от города, на реке мелководной, как все тамошние реки.
У отца была лодка, и нам разрешалось брать весла, перегонять лодку на тот берег, возвращаться разрешалось, кроме двух дней в неделю – субботы и воскресенья. Если у отца была священническая служба, то на субботу.
Отец приходил из города пешком вечером каждый день – сама дача подбиралась ради этих его ежедневных прогулок. И я часто выходил на холмы, откуда было видно издали, как идет отец по ржаному полю, как качается в колосьях его серая, легкая ряса из шелка, как сноп золотой ржи.
Утром отец уходил в город – мы еще спали. Иногда в какие-то дни нам не разрешалось пользоваться лодкой – у отца была рыбалка.
Эта рыбалка – отец владел неводом да еще и другими сетями – была, по его мысли, первым приучением к природе, ее законам. Вся семья очень охотно принимала участие в этих рыбалках. Вся, кроме меня.
Я как-то не мог вызвать в себе тот дикий энтузиазм рыболовства неводом. Отец отрицал удочку и никогда удочкой не ловил сам. Но неводу он отдавался весь.
А однажды мне довелось стоять близко от отца, когда вытаскивали невод, и я был просто поражен неожиданной его злостью, азартом охотника.
В неводе была очень крупная красавица щука – фунтов на десять, а то и больше. Щука упрыгнула в песок прямо около ног моих, и я загляделся на красоту рыбы. Резкий окрик отца вернул меня на землю и воду. Отец, видя, что я упустил рыбу, бросился сам, бросился ничком, удержал рыбу на песке и почти мгновенно выхватил из кармана перочинный нож и воткнул в хребет рыбы. Щука бросилась, плеснула, но сразу заснула.
Презрительный взгляд отца был наградой моей неловкости, моей чуждости этих охотничьих страстей.
Потом я мало бывал на этих тонях, а на ночных поездках с отцом – никогда…
Меня перевели на обслугу коз, которых я усердно доил, ходил за ними, принимал козьи роды – нашел свое место в отцовском хозяйстве. Козы ведь умные, но привередливые. Была у меня одна из привередливых – коза по кличке Тонька. Коза заболела и умерла от рвоты неукротимой. Я помогал ей по указанию отца – ставил клизму, промывал желудок, но Тонька умерла у меня на руках. И я расплакался, забился почти в истерическом припадке, что вызвало крайнее неудовольствие отца – я заслужил ряд бранных кличек.
Выяснилось, что резать козлят я тоже не могу – надо «нанимать» человека.
Все это было уже в гражданскую, во время голода, когда отец уже ослеп, а брат был убит; вопрос – кому колоть и резать – получил неожиданную остроту.
Я, конечно, помню этих козлят с головы до ног и сейчас могу вывести их зрительной памятью отчетливо и ясно.
А с Мардохеем был вот какой случай. Обычно на длинной веревке коз привязывали за рога, хотя у коз были ошейники. Но я поленился и привязал веревку прямо к ошейнику. Мардохея привязывали в саду за забором и сараем. Веревка была достаточно длинная, и козел вскочил на забор, спрыгнул оттуда по эту сторону – удавленный, но еще живой.
Слепой отец вышел на крыльцо, глядя на мои беспомощные попытки сделать искусственное дыхание. Стали мы делать это вдвоем – не получилось ничего, тело Мардохея чуть похолодело.
– Надо зарезать его быстро! Вот тычь сюда! – отец нащупал сонную артерию козла. – Режь, режь! Надо кровь ему спустить, тогда можно будет съесть.
Ощупью отцу удалось прирезать козла – из перерезанной артерии синеватая кровь почти не текла.
– Повесь его на забор вверх ногами и сними шкуру, пока еще теплая. – Я снял шкуру. – Голову отруби! – Я отрубил голову.
Вот это охотничье искусство, с которым действовал отец, меня поразило.
Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога.
В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей.
Церковными обрядами я интересовался мало.
Вера в Бога никогда не была у меня страстной, твердой, и я легко потерял ее – как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой.
Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные догматы, да и не только догматы.
– Самое главное – это успех в жизни, успех.
На эту тему отец удостоил меня беседой – к сожалению, поздно; в четырнадцать лет я уже был вооружен книжной мудростью, с какой никакой здравый смысл отца справиться не мог.
Я уже поспорил с Мережковским, почитывал книжки.
Отец старался внушать это не всегда прямо, но и примерами.
– Ты должен завоевать успех. Сначала профессия – твердая, врачебная, например, если ты не хочешь по духовной части, а только потом политика. Совершенно не важно, какие ты принципы исповедуешь, – все равно. Лучше всего – это научные занятия, профессура, кафедра.
Аргументы насчет божественной сущности человека отец не принимал главными.
Его главным героем был Питирим Сорокин – зырянин, земляк отца по родине, по Сыктывкару.
Стихи отец не то что презирал – некрасовский уровень считал наивысшим. Некрасов – кумир русской провинции, и в этом вкусе отец не отличался от вкусов русской интеллигенции того времени.
Я кончил школу пятнадцати лет, первым учеником. И хоть давно было известно, что в высшее учебное заведение можно попасть только по командировке, а командировку не дадут сыну священника, отец продолжал на что-то надеяться.
Наша классная руководительница Екатерина Михайловна Куклина подготовила мне аттестацию высшего качества: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью», и поскольку я интересовался только литературой и историей, – «имеет склонность к гуманитарным наукам».
Я показал характеристику отцу. К моему величайшему удивлению, она привела его в бешенство, да что такое бешенство! – вызвала длительный истерический взрыв.
Отец усмотрел в моем школьном свидетельстве ту же руку его каких-то тайных врагов. «Теперь дураку дают нарочно такую характеристику, чтобы не поступал на медицинский. Разве я их не понимаю!»