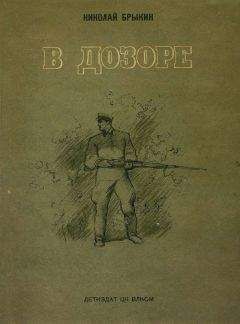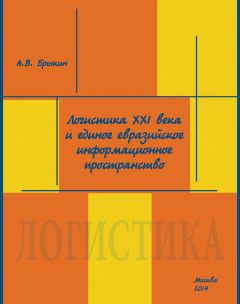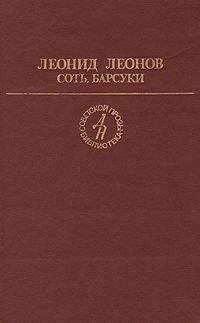Леонид Леонов - Барсуки
В Сускии пришлось ему хлебца под окошком просить, – глаз закрыл повязкой, а лицо скривил без милости, чтоб не признали земляка. Так он и шел, стыдясь и имени своего, и званья, воровским обычаем, голодный и пустой, как сума его.
Вот он свернул с дороги, прошел мимо полуразрушенных барских служб, через вырубленную рощицу и еще лесок, обтянутый как бы зеленой кисеей, и вышел на опушку. Здесь был обрыв. Он зарос можжухой, а за ним распространялась уже знакомая солдату ширь. Стоял он тут долго, прежде чем догадался присесть на разостланную суму. Он снял с себя шапку, обнажая холодному дыханью апреля стриженую свою голову. Дрожь охватила его, и зазнобило ноги. Он вобрал в себя воздуху, вязкого и тучного как сама земля, и стал глядеть.
Родимого села обширное поле лежало под ним на виду. В далеком низу, окаймленном отовсюду сине-бурыми полосками лесов, поднялось нагорье, главенствуя над всеми окружными местами. И нагорье это облепили избенки, как пчелки пенек, выдавшийся из полой воды. Они карабкались по склонам нагорья, чудесным образом повисая на скатах, они отбегали почти к самой речке, круто сломленной здесь пологим мысом холма. Дымки шли, свидетельствуя о жизни, а солдату показалось даже, что и воздух отливал этим горьким домовитым дымком. То и были Воры – село, давшее жизнь солдату, самая родная точка на земле.
«Ах, Воры-Воры, мать, воровская милая земля! Все, что было, все прах и сон, а ты единственная явь, незыблемо стоящая от века. Приедаются видно твои, необъемлемые умом, пространства, – выехал из тебя твой сын в городскую тесноту. На Толкучем ларь купил, и на том квадратном аршине пробесновался целые годы, силу свою выбесновал в круглую золотую выгоду. Было время – наезжал Егор Иваныч с бубенцами и тем чванливо хвастался, что мать свою накрепко забыл! А вот исчезла выгода, а рубли, как в забытой сказке, бараньими орешками обернулись вдруг. Обжевал тебя город, нутро вынул, трухой доложил, дал за верное подслужье тебе старую, вшивого цвета шинель: – гуляй в ней, Егор, позабывший о матери!.. А мать не оттолкнет. Мать примет сына, каким бы ни вернулся: множься, Егорушко, нет на тебе против матери твоей греха!..»
Долго глядел с такими думами Егор Брыкин на родные места. Вдруг слезы нахлынули, хотел бороться с ними и не совладал. Он вывернул карман, надеясь закурить. Ничего в кармане не было, кроме мелкого махорочного сора, смешанного с хлебными крохами. Он вытряс карманный сор на ладошку и швырнул на ветер. Ветер подхватил и понес вниз. Егор проследил полет их, и вдруг жадная зависть охватила его. Отщипнув былинку молодого щавеля, стал жевать.
Мужики с сохами копошились на всей широте поля. Било их босые ноги апрельским сквозняком, а домотканные порты, раздутые ветром, стояли как бревна. Много ли оставалось до одуванчикова цвета, а там и сеять. Надо было, чтоб скорей расцветилась зеленями мужицкая полоса, ныне густого цвета березовой губы, – темная.
По стародавней привычке, попахав вдосталь, собирались мужики на межах потолковать и покурить, покуда обсушивал ветер взопревших лошадей. Они присаживались на что попало, наслаждаясь буйностью первовесеннего месяца, стряхивая с себя оцепененье долгих и душных зимних ночей.
В ту минуту, когда Егор Иваныч с горы спускался, отдыхали трое на ближней стежке, – двое – балуясь махорочным дымком, третий – просто так отдыхал. Он-то, Савелий Поротый, и заметил прежде других неизвестного солдата.
– Человек идет! – возгласил он, на самом любопытном месте обрывая рассказ о былой своей службе.
Гарасим-шорник, чернобородый и нестареющий – напоминанье о ловком цыгане, проезжавшем через Воры сорок семь лет назад, – поплевал на черные свои пальцы, обжигаемые тлеющим окурком и воззрился на бредущего к ним солдата.
– Да, – в который уже раз рассказывал Савелий. – Как в девяносто первом году чествовали нас в Варшаве обедом... и я тогда в Пажеском корпусе состоял, в денщиках...
– Не велико званье, – заметил Евграф Петрович Подпрятов.
– Не в звании дело! – взмахнул Савелий рукой и вновь откинул ее за спину. – Званье – это никакого влиянья не оказывает! А лестно при человеке состоять. У него, по-нашему сказать, почетница ровно барыня шумит, а он ее почем зря кроет, явственный факт! Вино вот у них можно сказать что слабительное, не крепкое одним словом, но надпись не по-нашему...
– Ну, а насчет обеда-то как же? – вывел Савелья на прямую дорогу рассказа Гарасим, сидевший на земле.
– Обед? Вот-те и обед. Одной посуды что перебили! Там у нас один князь с Кавказа был, очень такой... ну, одним словом, Носоватова моего он потом и прихлопнул. Так он, как блюдо, скажем, отъест, сейчас хлобысь тарелку о пол... Высокий человек!
– Ох-ты, мать твоя курица, – захохотал Евграф Подпрятов, человек богомольный, со словом осторожный, восхитясь Савельевым рассказом. Даже кривой глаз его усмехнулся.
– Да-а... – продолжал Савелий. – Вот мой Носоватов-князь подходит и говорит мне полным голосом: выпьем, говорит, за меньшую братию...
Тут как раз и подошел неизвестный солдат.
– Здорово, мужички, – сказал он, глядя исподлобья.
Гарасим косым взглядом обмерил солдатские отрепья, словно в памяти своей подобие такому же отыскивал. Не нашел и сказал:
– Здорово, сума. Правь мимо!
– Как же ты, дядя Гарасим, – оскорбленно спросил солдат, – ужли не признаешь? А на свадьбе за моим столом одного вина, небось, рубля на три выхлестал... Да еще и взаймы брал!
– Не признаю. Голос знакомый, а признать не могу, – прогудел недовольно Гарасим и поглядел на лица собеседников, точно в них надеялся прочесть солдатово имя.
– Егор Иваныч! – визгнул вдруг Савелий и с чрезвычайной поспешностью протянул солдату руку. – Отколе ходишь? Вот уж и не думали, что вернешься! Аннушка-те... – он сорвался и беспомощно почмокал губами.
– А что Аннушка?.. – насторожился Брыкин.
– Да все ничего... Одним словом поживает! – в каком-то оцепененьи выпалил Савелий.
– Издалека идем! – торжественно начал Брыкин. – Денику отражал, да. А вот надоело. – Брыкин воровато подмигнул Гарасиму, но тот не ответил. Как вам сказать, друзьишки, на двух фронтах помирал! Да ведь солдатскую заслугу разве кто в теперичное время оценит? Как переганивали нас в теплушках, разнылось у меня внутри... Что ж это такое, думаю, людей на мочало лущат! Не могу, да и вся тут. Не хватает моих сил!
– На что не хватает?.. – тихонько спросил Евграф Подпрятов.
– Жить по чужим указкам не могу, – прошипел Брыкин в ответ. – Не живой я разве, чтоб на мне землю пахать! В нонечное время покойнику втрое больше почета, чем живому... – Егор Иваныч махал руками и кричал.
Гарасим, в ответ на это, только кашлянул и пошел, не оборачиваясь, к сохе.
– Ты б уж лучше назад шел, а? – сухо намекнул Подпрятов, почесывая здоровый глаз. – Сказывано, строгости будут...
– Насчет чего строгости? – встрепенулся, как угорь, Егор Брыкин.
– Это он говорит, насчет дезертиров у нас плохо, – неожиданно тонким голосом объяснил Савелий. – Эвон, Барыков-те с братом тоже недозволен-но вернулись. Зашпыняли их совсем свои же, зачем не убит, не поранен воротился. Уходи, говорят, из-за тебя и нам влетит! Ноне в лесах весь ихний выводок...
– Ты мне не накручивай, – мрачно оборвал Егор Иваныч, но все лицо его померкло. – Ты уж не меня ли за недозволенного принял? Да у меня, может, такой мандат есть, что вот съем всех вас и безо всяких объяснений! – и Брыкин тяжело и фальшиво захохотал. – Вон она, пуля-то... в себе ношу! и со странной быстротой, задрав до локтя рукав шинели, протянул грязную правую руку Савелью.
– На... щупай!
Савелий, опешив, боязливо коснулся пальцем того места, куда указывал Брыкин.
– Да, – поспешно согласился он. – Явственный факт... сидит!
– То-то и оно! – взорвался Брыкин. – Я грудью Денику отшибал! На, гляди... – он распахнул шинель, сидевшую прямо на голом теле. – А пулька-то, вон она!! – и с лихорадочной горячностью он хлопнул себя уже не по правой, а по левой руке.
Савелий заметил и опустил голову. Начинался дождик.
– Ну, пойду, пожалуй! Застоялась кобылка-те, – решился вдруг Савелий, кивая на западный угол неба, откуда ветер и где кружила большая черная птица.
– Дома-то все благополучно у нас?.. – остановил его Брыкин. Недавнего оживленья его как не бывало.
– Дом стоит... ничего себе... дом... – отвечал Савелий. – Дом как дом. Большой дом большого хозяина требует. Тимофевна сказывала, венец подгнил да крыша стала течь. А так дом как дом. Придешь – починишь.
– Я про жену спрашиваю... – терпеливо ждал Егор.
– Вот ты говоришь, жена-а! А кто чужой жене судья? Рази ты можешь мою жену судить? А я, может, не хочу, чтоб ты мою жену судил. Я сам моей жене хозяин! – и Савелий торопливо пошел прочь.
Брыкин тоже пошел дальше. Но чем ближе подходил к селу, тем более слабела воля, такая сильная, когда из теплушки ускользал. Он ускорил шаг, на последнем заулке чуть не сбил с ног Фетинью, бабу злую, разговорчивую. Пес у Брыкинского дома не полаял. «Сдох», решил про него Егор Иваныч. Всходя на крыльцо, вздрогнул, когда половица скрипнула под ним. На крыльце остановился и окинул все привычно-хозяйским взглядом.