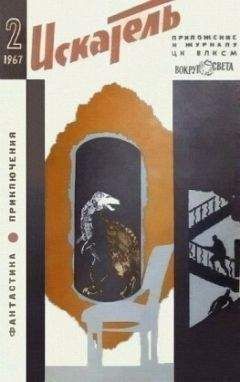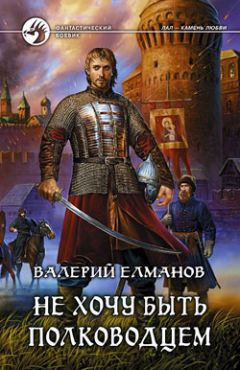Николай Самохин - Рассказы о прежней жизни
«Языки» становятся короче. Они уже не достают до берега, все дальше отступают к горизонту, сворачиваются опять до тончайших порезов. И эти порезы мелькают там вдали, как стая играющих рыб.
Никогда он не видел такого странного явления.
— Надо быть поэтом! Больше — никем! — он выговаривает это вслух и сразу: слова не прозвучали раньше в голове. — Только поэтом!
Но поэтов хватает и без него. Вот и сейчас двое из них спят в комнате. Один — старый его друг, весьма известный поэт. Второй — друг новый, поэт еще малоизвестный, но чрезвычайно пылкий. К Васенину очень привязался, полюбил его за что-то. Стихи недавно сочинил. Понаблюдал, как тут, у моря, все мало-помалу подружками обзаводятся, и сочинил:
Все нашел себе подруга,
Только мы нашел друг друга.
Спят поэты… И не видят всей этой тревожной, дразнящей красоты.
Вчера у старого друга был день рождения. Поэты проснутся, когда взойдет солнце.
День
Они покупали вареную кукурузу. Кукурузу продавали двое: тощий, высохший до щелочного состояния, абхазец и толстая, лоснящаяся жиром, абхазка. Кукуруза у них была забавно-противоположная: у абхазца — круглые, похожие на молодых поросят, початки: у абхазки — длинные и тонкие, как веретешки.
Вообще-то им не нужна была кукуруза. Они за молодым вином пришли на этот крохотный базарчик. Но по дороге Васенин заупрямился: никакого вина! У него свои имелись планы на вечер, и, согласно этим планам, он должен был сохранить себя трезвым.
А еще его смутил Большой поэт. Отвлек мысли от грешного намерения. Когда они, праздные и похмельные, шли на базар. Большой поэт под страшным пеклом реконструировал свою гасиенду. Он купил ее здесь за бешеные деньги, а теперь усовершенствовал за еще более бешенные.
Два молодых, чернобородых, голоногих парня топтали на кругу глину. Рядом стояла нерусского типа женщина, этакая утонченная пери, правда, в сарафанчике, с трогательным животиком будущей мамы.
Поэт, высокий, жилистый, прокаленный солнцем, закатав рукава белой рубашки, черпал глину широкой пятерней и, как штукатур, с размаху лепил ее на стенку дачи.
— Надо бы поздороваться, — сказал тот друг, который был известным поэтом. — Мы ведь знакомы. Когда-то вместе начинали.
— Может, пойдем? Смотри, как он занят, — сказал Васенин.
Он подумал: зачем Большому русскому поэту дача в этих экзотических местах? Не лучше ли завести ее где-нибудь в глубине России, на Владимирщине где-нибудь, среди дубрав и тихих речек?
— Да неудобно как-то молчком проходить, — сказал друг и, улучив момент, приподнял белый картузик.
— Все созидаем? — спросил он Большого поэта.
— Aгa! Созидаем! — ответил тот, влепив в стенку очередную порцию глины.
Какая-то ярость была в его поджатых губах, в заострившемся лице с играющими желваками.
«Зачем ему?» — опять подумал Весенин.
«Пери» улыбнулась им вышколенной, жалкой улыбкой.
Когда они возвращались обратно, женщины их грелись на пляже.
Их женщины — это жена известного поэта и ее подружка, оказавшаяся здесь проездом на несколько дней.
Жена поэта лежала на горячих гальках, подставив спину жаркому солнцу.
Подружка стояла — стройная, как манекенщица. Или — как богиня. Нет, богини, пожалуй, были слишком сытые. Как юная манекенщица она была. И черные, короткие волосы ее, чуть тронутые сединой, летели в сторону, отбрасываемые легким ветерком.
А рядом с ней стоял Большой поэт. Уже в другой рубашке, с отмытыми руками.
Он говорил… Васенин не хотел бы слышать, что он говорит, но ветерок наносил в их сторону, а голос Большого поэта, выкованный на эстрадах, был звучен и округл.
Он говорил:
— Я чувствую в вас женщину созвучной мне судьбы. Мы оба пережили трагедию. Сознайтесь — ведь вы ее пережили тоже?
Подружка, отвернувшись к морю, молчала.
Она не любила Большого поэта. И не могла полюбить. По какой-то иронии судьбы она тянулась к Васенину — неизвестному и недостойному, рисующему здесь картинки — зайчиков, белочек, ежиков, к детским книжкам своих расшалившихся друзей-поэтов.
Но, господи, боже ты наш! Он не мог полюбить ее, хотя полон был к ней нежности. Не мог, потому что знал ее трагедию, и она пока еще остро болела в ее душе.
Не мог еще и потому, что уже любил других женщин. Нет, не так; одну женщину, врученную ему судьбой, и одну фею.
А она не могла полюбить Большого поэта. Потому что он не знал ее трагедии. Только угадывал. И угадывая — угадывал будущее острое ощущение. Приключение, достойное темперамента Большого поэта. Как ненужная дача на этом далеком, чужом берегу.
…Море лежало белесое и плоское, без единой морщинки, словно накрахмаленная простыня.
Вечер
Они опаздывали.
Известный поэт провожал их — рысил рядом. Это он был виноват в опоздании. Отговорил сесть в специальный автобусик, организованный санаторием, — тесно, мол, будет, — убеждал, что рейсовый всегда проходит мимо, подбирает желающих уехать до большого города. А рейсовый взял и не прошел. И теперь надо было бежать к нему в центр городка.
Вдали — навстречу им — показался вишневый «жигуленок» Большого поэта.
— Эх, черт! — сказал провожающий. — Можно бы попросить его развернуться — здесь всего три километра. Да неудобно как-то одалживаться.
А пылкому поэту было все удобно.
— Эй! — закричал он и назвал Большого поэта по имени. — Стой, пожалуйста!
Большой поэт резко тормознул — машину сзади обдало желтой пылью.
И тогда провожатый отважился.
— Это мои друзья, — сказал он, взяв их почему-то за руки, как детей. — Они страшно опаздывают. Тут всего три километра, а?
Большой поэт лихо развернулся. Они сели.
Некоторое время ехали молча. Но пылкий друг Васенина не выдержал искушения.
— Слушай, — заговорил он. — Что новенького пишешь? Стихи? Поэму? Чем обрадуешь?
Васенин пожалел Большого поэта, хотя лично знаком с ним не был.
— Спроси лучше у человека, когда он с дачей своей разделается.
Он произнес это нарочно грубовато.
— Точно! — обрадовался избавлению Большой поэт. И сбросил руки с баранки. Они были в мозолях, ссадинах, с покалеченными ногтями. — Что можно написать такими руками?
Друг, однако, не унимался:
— Слушай! Напиши автограф, а? Два слова, а? Вот хоть на папиросной коробке.
От автографа Большого поэта спасло то, что они подъехали к остановке рейсового. И автобус стоял уже «под парами». Пришло время пожимать руки и благодарить.
Пылкий поэт смотрел вслед удаляющемуся «жигуленку». Глаза у него были разнеженно-бараньи.
— У меня такое чувство, будто я только сошел с каравана поэзии! — молитвенно произнес он.
Васенин понял, что очень скоро прочтет об этом случае какие-то возвышенные стихи.
…Зал, где она выступала, был переполнен. Даже проходы оказались забитыми.
Васенин сразу увидел ее. И сразу понял, что не останется у входа. Работая локтями, он стал пробиваться к сцене. Наверное, было в его лице нечто такое, что на него не шикали. А может, приняли за какого-нибудь распорядителя.
Он выгреб к самой авансцене. Там, на приступочках, оставалось еще не занятое место. Васенин занял его. Теперь он уже не мог видеть ее. Но зато слышать мог хорошо.
Она…
Про это надо рассказать особо.
Хотя про что же рассказывать? Ничего ведь, в сущности, и не было.
Приятель спросил его однажды:
— Хочешь познакомиться с ней?
— Нет! — быстро ответил он. — Не люблю знакомиться со столичными знаменитостями. Они потом проходят сквозь тебя, как сквозь воздух.
— Она не такая, — покачал головой приятель. — Да и поздно уже. Я позвонил, сказал, что мы сейчас заедем.
Делать ничего не оставалось — они поехали.
И сначала вроде все было заурядно. Ну, села в машину женщина: шубка, шапка, носик, безутешная какая-то складка губ. «Здравствуйте», — улыбка — рукопожатие.
Затем — маленький, угловой столик в ресторане, который сразу окружили, обсели ее друзья и обожатели — кожаные, замшевые пиджаки, холеные, аристократические лица.
И он тут — сбоку-припеку.
Правда, сразу представленный — или поставленный на место: «Наш сибирский друг. Художник».
Но потом была только она. Одно ее лицо, ее губы, ее глаза, ее глубоко открытая грудь в обрамлении черных кружев (это ведь надо же! — так целомудренно возвеличиваться, так олимпийски царить — грешной и смертной — над мешаниной кружев, кофейных чашек, блюдец, острот). Было только ее сияние, излучение, только её слова — а может, звуки? — ибо Васенин запомнил из всего произносимого одно лишь заклинание: «Ребята, давайте любить друг друга!»
И это «давайте любить друг друга» относилось к нему тоже. Значит, и он тоже мог, должен, обязан был любить ее.