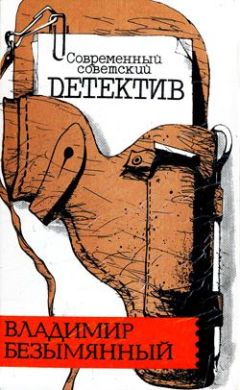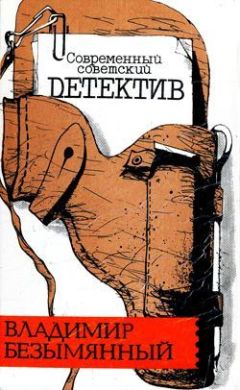Анатолий Ананьев - Версты любви
«Вот, возьмите, Евгений Иванович», — сказала она, подавая мне тот самый узелок.
«Что это?»
«На дорогу».
«А-а, — протянул я, беря узелок. — Ну, счастливо, только у́тра, непременно у́тра!»
Я не обнял ее, не пожал ей руку; поезд тронулся, и я из тамбура, из-за плеча проводника, смотрел на удалявшуюся — как будто удалялся не я, а она — фигуру Зины. Она не махала ни платком, ни рукою, как распространено у нас, сколько я езжу и вижу, в народе, и пальцы как будто не держала прижатыми к груди у шеи, как Рая, когда я уходил от нее, а, напротив, руки ее были опущены и вся она стояла неподвижно, даже не качнувшись в сторону уходившего поезда, но и в этой ее прямой осанке, в неподвижности были еще как будто яснее, чем в жесте Раи, я отчетливо почувствовал это тогда, выражены и спокойствие, и тревога, и смирение, если случится вдруг еще раз пережить горе, и надежда на счастье, какая всегда живет в русском человеке в любой, даже самый безысходный час, особенно в русской женщине, на долю которой веками выпадали такие испытания.
Станция уже скрылась из виду, я вошел в вагон, но Зина еще долго как бы стояла на удалявшемся дощатом перроне перед моими глазами.
Как это обычно бывает, в первый же вечер, пока ехали по тайге и пока свежи еще были впечатления от прощания с Зиной, я думал о ней, о Москитовке, которая действительно-таки уже вошла в мою жизнь как что-то родное, близкое, может быть, как раз благодаря только тому, что Зинаида Григорьевна (я повторял и еще сто раз буду повторять: как все-таки жаль, что обо всем хорошем, что делается для нас, мы лишь вспоминаем, а в самый тот момент, когда все происходит, слепы, да-да, слепы!) по-своему, как могла, создавала уют и скрашивала мое, особенно в первую осень, не очень-то радостное бытие, думал и о школе, и о Зиновии Юрьевиче («Сколько же повидал за свою жизнь этот человек, — говорил я себе, — будь он теперь в вагоне, до утра хватило бы разговоров!»), но как ни свежи были эти впечатления, вместе с затихавшим как будто стуком колес, вместе с той дремотою, которая как раз после всех пережитых волнений дня и вечера все сильнее одолевала меня, и воспоминания и думы словно отдалялись, уходили и растворялись, как только что, когда я еще стоял в тамбуре и смотрел на огоньки станции, уплывал и растворялся в синем ночном сумраке короткий дощатый перрон со стоявшей на нем Зинаидой Григорьевной; я не заметил, как заснул, убаюканный ритмом движения, монотонным покачиванием вагона, а утром, когда проснулся, так же как я сам был уже далек от Москитовки, так же далеки были и воспоминания о ней. В дороге, и я давно заметил это, волнует тебя не то, что осталось где-то позади, а другое, что ожидает, к чему едешь и что — именно потому, что ты еще не знаешь, как все обернется, — вызывает особенные чувства. Мне казалось тогда, что я не думал о Ксене, а все мысли были сосредоточены только на одном: как я ступлю на землю, на которой воевал, где и в морозные и в слякотные зимние дни пришлось испытать немало страшных минут, где все и теперь еще, наверное, было наполнено звуками стрельбы и разрывов, где были похоронены (не под деревней Гольцы, нет, а вообще в Белоруссии) боевые друзья, солдаты нашей батареи, и те зенитчики, что выдвигали свои орудия против немецких самоходок и которых затем уносили на плащ-палатках лесом, в общем, мне казалось, что я думал лишь об этом, и с каждым километром, чем ближе подвозил меня поезд к заветным местам, тем отчетливее вспоминалось прошлое; о том, чтобы задержаться в Москве, как предполагал, отправляясь из Москитовки, потому что надо было выполнить кое-какие поручения, в том числе и Зиновия Юрьевича, теперь не могло быть и речи; я говорил себе: «На обратном пути, только на обратном», — и едва лишь сошел на перрон Казанского вокзала, как тут же нанял такси, перебрался на Белорусский и в тот же вечер уже снова лежал на полке в купе, и будто не было пересадки и не прерывались доставлявшие мне и удовлетворение и тревогу размышления.
В Калинковичи я приехал утром.
Я ступил на перрон с тем чувством, словно не там, в Чите, а здесь была моя родина, и с такой жадностью всматривался во все: в новое здание вокзала, в киоски, в людей, в пристанционные деревянные избы (только они тогда, в сущности, да еще дощатый барак, приспособленный, как я и предполагал, под пакгауз, напоминали те, старые и жившие в моей памяти Калинковичи), — что со стороны, наверное, казался странным, будто впервые приехавшим невесть из какой глуши в город человеком; может быть, потому-то возле пакгауза, когда я, обходя вокруг него, всматривался в потемневшие от времени доски — для меня они были книгой, рассказом, памятью, — какой-то железнодорожник в форменной фуражке, думаю, весовщик из этого же пакгауза, довольно громко и резко спросил: «Вам чего здесь нужно, гражданин?» Несколько мгновений я смотрел на него; лицо его было не очень приветливым, и я, решив про себя: «Да что он поймет!» — повернулся и зашагал на привокзальную площадь. Я уже не помнил, что минуту назад, на перроне, мысленно провел черту между собой и домом Ксени; потемневшие стены станционного дощатого барака так живо восстановили в памяти прошлое, что теперь, когда я удалялся от него, хотя и говорил себе: «В Гольцы! Сейчас же, сразу в Гольцы!» — все же не сел в автобус и не поехал к центральному колхозному рынку, где легче всего можно было найти попутную машину в Гольцы, а невольно, почти не осознавая того, что делаю, с тяжелым рюкзаком за спиною пошел через весь город по знакомой — правда, она была не заснежена, как тогда, все было обрамлено зеленью, но для меня она по-прежнему оставалась той, заснеженной, — улице, чтобы если уж не зайти, то, по крайней мере, взглянуть на дорогую мне избу с высоким крыльцом и высокими и холодными, как мне почему-то и теперь кажется, перилами; ведь я только внушал себе, что тянуло к местам боев, тогда как настоящей причиной было, конечно, другое, и я постоянно чувствовал это, а подходя к дому Ксени, чувствовал особенно. И все же я не зашел в тот день к Ксене; издали, с обочины, оглядел я до мелочей памятные мне фасад и крышу и затем, остановив какую-то направлявшуюся через Гольцы райпотребсоюзовскую, кажется, полуторку, забрался в кузов на ящики и, чтобы не видеть удалявшихся окраинных домиков Калинковичей, принялся смотреть вперед, на дорогу. Я узнавал, разумеется, лесные опушки, на которых когда-то мы разворачивали батарею, и взгорья, по которым, то залегая в снег, то подымаясь, когда-то двигалась наступающая пехота, но вместе с тем я не испытывал того радостного, что ли, волнения, какое, как мне казалось, должен бы испытывать (какое, помните, овладевало мною в вагоне, когда только подъезжал к Калинковичам); напротив, будто даже с безразличием смотрел я вокруг, и были минуты, когда хотелось тут же постучать в кабину водителя, остановить машину и, спрыгнув на шоссе, кинуться обратно: на вокзал, на поезд, в Читу, в Москитовку, где все — и эти места (в мыслях, конечно), — все представлялось наполненным жизнью. «Вот уж действительно дурная голова ногам покою не дает, — с усмешкою думал я про себя. — Ну, были здесь бои, ну что? Стоят хлеба, все запахано, заросло, а там... зарастает могила Раи. И Зинаида Григорьевна! Как неподвижна была она на растворявшемся в сумерках дощатом перроне», — продолжал я, попеременно возвращаясь то к одному, то к другому, но с одинаковым как будто равнодушием, и согласуясь лишь, как вам сказать, с формулой, что ли, «жизнь есть жизнь, и каждому в ней свое». «А мне свое — эта тряская дорога, кузов и прыгающие ящики в нем», — продолжал я. Так как в Гольцы мы приехали под вечер, я вошел в первую приглянувшуюся на краю деревни избу и, ничего не рассказывая о себе хозяйке Евдокии Архиповне, как назвалась она, попросился на ночлег.
«Отчего же нельзя, можно, ночуйте», — сказала она.
«А что-нибудь поужинать — молока, картошки, я заплачу».
«Да чего уж, можно».
Она отварила картофель, принесла молоко из погреба, и я, поужинав, отправился на сеновал, не желая нарушать привычной вечерней жизни хозяев дома — Евдокии Архиповны и ее дочери Вари. Тогда я еще не знал, что у нее есть и сын, который учился в то время в городе; да многого я еще не знал о ней: ни того, что муж ее партизанил и погиб в здешних лесах, ни, главное, того, что в памятный для меня холодный январский день, когда мы вели поединок с немецкими самоходками, за бревенчатым настилом, здесь, в деревне, в промерзшем подполе своей избы двое суток отсиживалась она со своими маленькими детишками, а когда в деревню ворвались наши автоматчики, кто-то из бойцов, видя окоченевших ее детей, снял из-под своей шинели ватную телогрейку и укутал ею ребят; словом, ничего этого я не знал, да и не стремился в тот вечер узнать хоть что-либо, занятый весь собою и жаждавший уединения, — я ведь потом, приезжая в Гольцы, всегда останавливался у нее в доме, и сын ее Костя, Константин Макарович, на моих, в сущности, глазах был и учителем, и директором местной школы, и много лет затем секретарем партийной организации колхоза, и вот теперь уже третий год председательствует, и, говорят, неплохо, да и дочь вышла в лаборантки на молочном приемном пункте, ну а вообще-то вспомнил я это так, не к делу, просто становились на моих глазах жизни, и все, а в тот вечер мне хотелось уединения, и я, с удовольствием растянувшись на прошлогоднем, пересохшем и колком под тонкой подстилкой сене, долго смотрел на синее звездное июльское небо. Я был огорчен и разочарован своей поездкой, ничто не утешало меня, никакие, даже добрые воспоминания. «Нет, порывы души — это одно, а жизнь — это совсем другое, — говорил я себе. — Жизнь проще, и она требует рассудка». Ведь все это, что теперь происходит со мной, можно было предугадать, предвидеть, и Зинаида Григорьевна (она все время возникала передо мной в воображении: то на дощатом перроне, какой я оставил ее, то в комнате у двери, нарядная и с тем выражением надежды и счастья на лице, какое я уловил тогда) — вот она все, конечно, знала, потому и была так грустна, стояла неподвижно, и в этой ее неподвижности — как же я сразу-то не сообразил! — было сказано все: «Куда, зачем и для чего едешь?» Я думал так, вместе с тем прислушиваясь, как засыпала деревня, как затихали дальние звуки и как именно оттого, что затихали те, яснее слышались ближние, и мне чудилось, что будто где-то совсем рядом со мною (на самом деле под сеном, под жердевой крышею, в хлеву), облизывая, наверное, языком свои мокрые розовые губы, беспрерывно и бесконечно жевала жвачку хозяйская корова; я и проснулся утром с тем ощущением, что напрасно приехал сюда, что всякие чувства — это ложь и что никогда нельзя поддаваться порывам. «Да хотя бы и Ксеня, — думал я. — Благородный порыв, минутное чувство, и что из этого? В госпиталь! А ведь все могло быть иначе, да и было бы все иначе, что говорить — ясно бесспорно, а главное, просто, так все просто, что удивительно, как можно было видеть когда-то все по-другому!» Не позавтракав, не сказав никому ничего, я вышел со двора мрачным, нахмуренным, и только когда, очутившись уже за деревней, ступил на бревенчатый настил (тогда, в первый мой приезд, был еще этот бревенчатый настил через заросшую кустарником топь и маленькую речушку, а дорогу насыпали потом, спустя лишь несколько лет, и тоже, как говорится, на моих глазах), — да, так вот, только когда ступил на бревенчатый настил, как будто что-то переключилось во мне; не сразу, разумеется, не вдруг; сначала я принялся искать место, где стояли тогда немецкие самоходки, и хотя никаких следов с тех пор, само собой, не сохранилось, да и бревна в настиле были давно подновлены, но, как бывший военный, бывший комбат — если помните, ведь я закончил войну в должности командира батареи, — я прикидывал, осматривая местность, где удобнее было им стоять, где бы, вернее, я сам поставил их, будучи, скажем, немцем; незаметно, но все явственнее втягиваясь в атмосферу того боя, какой когда-то разыгрался здесь и участником которого я был, я торопливо зашагал через бревенчатый настил на другую сторону болота, на нашу, чтобы час за часом, минута за минутой вновь пережить весь поединок с немцами, и еще не выйдя из кустарника и не войдя в лес, уже чувствовал — не в самом себе, нет, а как будто вокруг — звуки нараставшего артиллерийского обстрела. В лесу, где стояла наша батарея (следов от окопов и ровиков не было и здесь, трава закрывала все, а я не раздвигал ее и не всматривался), я прижался щекой к стволу ближней березы (мне казалось, к той, что и тогда, в январе сорок четвертого) и совершенно отчетливо слышал, как тяжелые, резкие и оглушительные разрывы прокатывались по лесу. «Вон там стояли зенитные орудия, — говорил я себе, — а здесь горели наши танки, а вот тут, перед самым кустарником, были врыты орудия нашей батареи». Я смотрел, говорил себе это, и прошлое, пережитое, как бы само собою разворачивалось во мне, и хотя я, то и дело поправляя на спине тяжелый рюкзак, шел к тому месту, где были подбиты зенитные орудия (именно туда в первую очередь тянуло меня, хотя я и теперь не могу объяснить почему), в то же время в мыслях я как будто бежал на командный пункт к комбату и, вытянувшись и замерев, выслушивал приказание подполковника, а потом, вернувшись на батарею, отдавал распоряжение сержанту Приходько и вместе с бойцами его расчета вытягивал к обочине дороги орудие; для меня одинаково реально было и то, к чему я подходил и что осматривал сейчас, и то, что происходило тогда и горячило теперь воображение. Постояв возле нескольких обмелевших, если так можно выразиться, и заросших травою воронок, которые когда-то устрашающе чернели на белом снегу и от которых уносили убитых и раненых зенитчиков, я спустился ниже по дороге, где мы разворачивали перед горящими танками наше орудие на прямую наводку, и с удивлением в первое мгновение увидел, что щель на обочине жива, понимаете, жива, хотя тоже обмелела и тоже заросла, и я с минуту стоял перед ней, как перед памятником, и смотрел, как по краям рядом с жилистыми листьями подорожника на высоких зеленовато-белых стрелках чуть шевелились на ветру крупные белые головки одуванчиков. Затем, повернувшись, взглянул на дорогу, на бревенчатый настил, который теперь, в ясное солнечное утро, был виден намного отчетливее, чем тогда, в пасмурный зимний день, казался совсем рядом, будто начинался вот, метрах в пятидесяти от места, где я стоял, и хотя, разумеется, никаких самоходок сейчас на нем не было, а даль просматривалась так хорошо, что можно было различить крыши окраинных изб деревни, но для меня все вокруг, может быть, на какие-то доли секунды словно преобразилось, и не было листвы на кустарнике, и по краям дороги лежал снег, багрово-розовый от горевших танков, а я, пригнувшись, ловлю в перекрестие прицела бронированный лоб самоходки и чувствую, как ладонь ложится на холодную, покрытую, как перед тем, первым, выстрелом, колким игольчатым инеем металлическую гашетку; мгновение, сейчас грянет выстрел, я прыгну и покачусь в щель, и все оживет: и лица, и руки, и согнутые спины солдат в шершавых и обсыпанных комками красной глины шинелях, и звонкое «шлеп! шлеп!» раздастся там, возле уже подбитых зенитных установок, и сержант Приходько шепотом скажет: «Пронесло», — скажет так, с тем неповторимым оттенком, как произносилось это слово только на войне и только в определенные минуты боя. Я слышал и видел все, глядя на щель и бревенчатый настил, но вместе с тем как эта ожившая картина казалась мне реальностью (она продолжалась и потом, когда я, уже сняв рюкзак, сидел на траве, свесив ноги в бывшую глубокую и теперь обмелевшую щель, вырытую, как я и сейчас с удовлетворением отмечал про себя, разумно и расчетливо, не поперек, а вдоль дороги), я не пригнулся и не кинулся в щель, как тогда, во время поединка; я медленно сошел с дороги и сел, как путник, решивший отдохнуть, а в ушах все еще гремели выстрелы и разрывы, перед глазами все еще прочерчивались огненные трассы бронебойных снарядов, а со стороны леса уже доносились,голоса подходивших к орудию подполковника Снежникова и нашего комбата капитана Филева; вот-вот они примутся обнимать и пожимать руки и прозвучат и теперь дорогие мне слова: «Всех к награде! Сержанта — к боевому Знамени, лейтенанта — к Герою!»