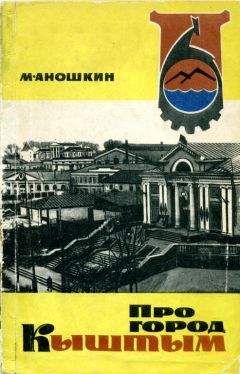Михаил Аношкин - Кыштымцы
— Поприжать — и подожмут хвосты.
— Давай будем прижимать. Хватать всех недовольных и в кутузку их! А если мы завтра с тобой не обеспечим Кыштым хлебом, керосином, солью, так завтра и рабочие заволнуются. Их что, тоже туда же? Это тебе не игрушки, товарищ Дукат! Мы будем делать революцию кропотливо, трудно, непримиримо. Это потруднее, чем махать револьвером. Кстати, ты и Седельникова упек, догадываюсь, за слова — он при тебе пожалел, что дали под зад англичанам. Так? Молчишь, значит, так. А насчет леденцов ты прав — бегал я за ними в пузановскую лавочку, хорошие были леденцы-монпасье. И не оторопь у меня к Пузанову. У нас с ним любовь взаимная — он трясется при упоминании моего имени, а я — при упоминании его. Но только почему я должен сейчас упрятывать его в кутузку?
— Они же сговариваются, как ты не поймешь! А завтра глотки нам перегрызут. Так уж лучше упредить!
— Прав Тимонин — не сам по себе страшен Пузанов, а тогда, когда его поддержат обыватели, когда вокруг него сколотится шайка. Но мы не должны этого допустить. Мы не имеем права таких мужиков, как Седельников, толкать в объятия к Пузанову.
— Выходит, я толкаю? Выходит, я создаю объективные условия, при которых Пузанову легче сколотить шайку? Это же демагогия!
— Но я сказал по-другому — не надо толкать! А к оружию прибегать в последнем, крайнем случае.
— Тебе трудно возражать, аргументы у тебя веские. Так пусть нас рассудит жизнь!
— Но сегодня жизнь делаем мы!
— И тем не менее смущает меня одно — вы будто глухари, токуете и не слышите, как подбирается охотник. Грянет выстрел и будет поздно!
— Я, например, мало полагаюсь, на интуицию, — сердито возразил Швейкин. — Но я знаю истинное положение дел на заводах: трудная продовольственная обстановка, всякие нелепые слухи на этой почве и законное недовольство. На заводах нет работы, потому что затруднен сбыт продукции. Кое-кто пользуется этим. В окрестных селах не унимаются кулаки. В целом по России обстановка тревожная, тяжелейшая. Вот мои отправные данные. Согласись, трудно назвать нас увлекшимися своей песней глухарями. Если же начать повальные аресты, о которых ты что-то уж часто и много говоришь, то мы, во-первых, ни одну из проблем не решим, а только усугубим, а во-вторых, восстановим против себя народ. А что мы с тобой без народа? Нули!
Нет, не просто убедить упрямого Дуката. Швейкин и не рассчитывал на это. Но вот поколебать его, кажется, удалось. Ушел Дукат задумавшимся.
У Бориса Евгеньевича что-то разболелась голова, и он попросил Ульяну, чтобы она никого к нему не пускала.
…Никогда Борису Евгеньевичу не приходилось так много заседать, как в эти зимние и весенние месяцы восемнадцатого года. Повестка дня порой включала в себя до двадцати и больше пунктов. Такое пустяковое дело, как выделение деловому совету самых обыкновенных мешков, было предметом горячих споров. Рядились за каждый мешок, чтобы не отдать лишнего, и получалось это с чисто кыштымской прижимистостью. Ну, спрашивается, какая разница выдать десять или двенадцать мешков, если на складе их больше сотни и лежат они там чуть ли не со времен Ордынского? Так нет — спорили и всерьез надеялись, что не завтра, так послезавтра мешки пригодятся и будут еще цениться на вес золота. Накрепко верили — придет такое время и оно не за горами. Потому что Дмитрий Тимонин и его помощники все-таки сумели сдвинуть дело с мертвой точки. Из Екатеринбурга привезли вагон всяких хозяйственных мелочей — керосина, соли, гвоздей и еще зачем-то висячих замков. Не иначе остались с прошлого столетия, вот и сунули их кыштымцам в нагрузку.
После очередного заседательского бденья Борис Евгеньевич распахнул окно, и свежий воздух ринулся в душную комнату. Никак уже утро? Швейкин накинул на плечи тужурку и вышел на крыльцо. Свежо, но какой воздух! Дыши — не надышишься! Борис Евгеньевич присел на ступеньку. Ночи еще прохладные, но скоро потеплеют — июнь уже на носу. Кто-то опустился рядом. Да это же Ульяна! В пальто, тоже накинутом на плечи, без платка. А он, занятый своими делами, позабыл о девушке.
— Почему не дома? — спросил он ее.
— Да так, — повела она плечами. — Припозднилась вот…
На станции гукнул паровоз. В кустах спросонья пикнула пичужка. Над соседней крышей мигает яркая звезда.
— Как эта звезда называется, знаешь? — спросил Швейкин.
— Какая? — встрепенулась Ульяна.
Борис Евгеньевич вытянул руку, и Ульяна нашла звезду:
— Ой, какая красивая!
— Аврора — утренняя звезда.
— Сроду не слыхивала.
— А рассвет на озере когда-нибудь видела?
— Не-ет.
— Тоже — кыштымка!
— Так никто же меня не брал! Тятя рыбаком не был, ну а с мальчишками я не водилась.
— Я бывал на плесе, до ссылки. С Осипом Наговицыным. Как-то с вечера уплыли на плесо, а там камышей — заблудиться можно. Заводи есть — вода светлая, все водоросли видать, даже камушки на дне, хотя и глубоко. Приплыли затемно, прятались в камышах, прямо в лодке и подремали. Тут и рассвет начался. По воде парок стелется. В камышах утки крякают. Поплавки на воде замерли, Потом — рраз! Клюнуло и повело. Леска вот-вот лопнет. А в это время над Кыштымом краешек солнца высунулся — все заискрилось, ожило. Описать трудно! Видеть надо. Так что считай, Уля, поездку на плесо за мной. Потеплеет и уплывем, в камышах будем ловить здоровенных окуней. Или ты не согласна?
— Пошто? Очень даже согласна. Можно спросить?
— Если охота.
— О новой жизни вы все говорите. А какая она будет?
— Хорошая, разумеется, а иначе зачем было революцию делать.
— А все-таки?
— Ну как тебе сказать? Прежде всего, без бедных и богатых, все будут равны. Всех заставим работать. Пузанова тоже. Что заработал, то и получи. А то ведь одни в сыре-масле и ничего не делают, а другие с голода пухнут и спины на работе не разгибают. Малого и старого за парту посадим.
— Всех? — удивилась Ульяна.
— Всех. У тебя какая мечта?
— Тятя говорил — вот бы Ульку учителькой сделать. И я хотела!
— Значит, будешь учительницей. Еще не поздно.
— Да ну, куда уж мне…
— Немножко с хозяйством поправимся, контриков прижмем и будем учиться. Даже Савельича заставим. Ни одного дитенка без школы не оставим, университетов побольше заведем. А то у нас в Кыштыме в высшем заведении учился один Ерошкин, у его отца тугая мошна была. Остальные грамотные все приезжие. А кто из рабочих выучился?
— Учиться зачнем, а кто робить будет?
— Работать будем и учиться.
— Да на какие же капиталы?
— Бесплатно. А кое-кому жалованье будем платить за учебу-то, тебе вот, например.
— Да ну вас! Сказки какие-то!
— Сказки! Не-ет! За эти сказки вон сколько народу погибло — в тюрьмах, в ссылках, на баррикадах. Сказка, Уля, тогда, когда несбыточно. А мы реалисты, мы хотим, чтобы так в жизни было.
— Вы тоже пойдете учиться?
— Самый первый!
— А я думала вы все знаете.
— Что ты! — воскликнул Борис Евгеньевич. — В гимназии учился недолго, больше самоуком — то в тюрьме, то в Сибири. Я бы инженером стал, а то и врачом.
— Чудно, — сказала Ульяна задумчиво. — Жили, жили, взрослыми заделались — и за парты! Даже дядя Алеша!
— Время такое наступает — без грамоты ни шагу!
— Хорошо, грамотеями заделаемся, а любовь не отменят?
— Как же ее можно отменить? Любовь станет чище, Уля, возвышенней. Потому что жизнь будет прекрасной.
— Вы кого-нибудь любили?
— Было, но очень давно. Понравилась одна девушка, а я все времени не мог найти, чтоб поухаживать. Решился однажды проводить ее, а егозинские парни поколотили меня. Правда, правда, не смейся.
— Больше ни за кем не ухаживали?
— Нет, Уля, не ухаживал. Да когда же?
— Оно так, — грустно согласилась Ульяна. — Вокруг себя ничего не замечаете. Только и знаете заседать с утра до вечера да на митингах говорить. И спите-то не всегда. Так ведь всю жизнь проморгать можно.
— Ну не всю, преувеличиваешь. Но кому-то и заседать надо, и на митингах выступать. А как же? А вот насчет замечаю я или не замечаю, тут уж позволь тоже не согласиться. Я даже знаю, почему ты не ушла домой.
— Осуждаете, да?
— Что ты?! Стараюсь разобраться в самом себе…
— Чего разбираться-то, Борис Евгеньевич? Я бы вам мешать не стала, тенью бы заделалась, лишь бы всегда рядом. Куда угодно за вами пойду.
— Может, об этом потом?
— Да когда же потом-то? Вы же видите, как я маюсь?
— Эх, Уля, Уля! Ты думаешь, мне любить не хочется?
— Так любите же.
Он промолчал. Ульяна погрустнела.
— Не печалься, — улыбнулся Борис Евгеньевич. — Все образуется. У нас еще много впереди хорошего. И любить мы с тобой будем.
Борис Евгеньевич обнял Ульяну, легонько притянул к себе:
— Поплывешь со мной на плесо?