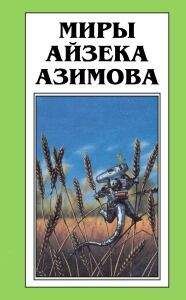Павел Паутин - Дом с закрытыми ставнями
Давай, — шепнул Сашка.
Брат осторожно дернул нитку, и колобашка застучала в окошко Мироныча. Мы фыркнули. Дергали нитку до тех пор, пока в избе не зажегся свет. Заскрипела дверь, и Мироныч глухо и сонно спросил:
Кто там?
Мы тряслись от смеха, зажимая рты.
Все чудится мне, что ли? — пробормотал Мироныч и поплелся обратно в избу. И только погасил он свет, как Ванюшка снова застучал. В окошке опять зажелтел тусклый свет, и снова затрещала дверь.
Да кто там стучит? — рассерженно крикнул Мироныч, в темноту. Подождал, послушал, плаксиво запричитал: — Господи! Избавь от наважденья. Чо это мне все чудится, господи? Покою никакого нет. — И он ушел, хлопнув дверью.
Задыхаясь от хохота, толкаясь, вырывая друг у друга простыню, переругиваясь шепотом, мы приготовили спички, керосин, надели маски. Ванюшка сильнее задергал нитку, колобашка застучала громче, Мироныч выскочил с руганью, распахнул калитку, и тут мы, держа перед собой простыню, выплыли из темноты. Сашка набрал в рот керосину и дунул им на зажженную Ванюшкой спичку. Сноп пламени метнулся в сторону Мироныча.
Старик в ужасе взмахнул руками, повалился и пополз на четвереньках к крыльцу, бормоча:
Свят, свят, свят… Нечистый пришел… За что, господи? За какие грехи?
А мы, хохоча, уже неслись по пыльной дороге…
А на другой день бабы затрещали на улице, что Миронычу видение было, что ночью приходил за ним нечистый с черным ликом, изрыгающий огонь. И что Миронычу шибко плохо стало, и он слег. А скоро понеслось из избы в избу, что это «бактистовы парнишки» ночью напугали старика. Только уже потом мы узнали, что это Сашка не вытерпел, сболтнул кому–то из мальчишек, те и выдали нас.
Убьет отец, — испугался Ванюшка. — Не ходи домой!
И убежал. Я, было, заглянул в калитку, но, увидев во дворе отца, который с яростью выбежал на крыльцо с толстым солдатским ремнем в руке, бросился в проулок и что есть мочи понесся к речке. Там я нашел в обрывистом берегу пещерку, натаскал травы, моху, веток и решил переночевать в ней. Измученный всеми треволнениями дня, я крепко уснул в своей пещерке, едва только стало смеркаться. И проснулся лишь на рассвете. Над речкой поднимался легкий туман, от воды несло холодком. Я скорчился на своей травяной постели и почувствовал себя одиноким, несчастным, никому в мире не нужным. Да еще есть хотелось так, что хоть кричи.
«Вот возьму и никогда не вернусь домой, — подумал я. — Умру здесь от голода, тогда небось узнаете». Я представил, как найдут меня здесь мертвым, как мать упадет передо мной на колени, и будет рвать волосы, и кричать, и каяться, что она меня совсем не любила…
Мне стало так жаль себя, что из глаз моих часто закапали слезы.
«Робинзон Крузо прожил на необитаемом острове двадцать восемь лет, и я буду жить один! — решил я. — Вот только схожу домой за ружьем».
Не вытерпев, днем я пошел на крайнюю улицу и уговорил одного из знакомых мальчишек стащить для меня буханку хлеба. Сунув ее за пазуху, я вернулся в убежище. В березняке набрал земляники в подол рубахи и съел ее с хлебом…
В темноте я подобрался к дому. Крыша его чернела на фоне серого пасмурного неба. Бесшумно пробрался в сад и затаился под рябиной у кухонного окна. Половинка ставни была открыта. Слабый свет падал на рябиновые ветви. Я услышал нудное, однообразное пиликанье баяна и унылый голос матери, которая тянула унылые слова:
Ты измучен бессильной, бесплодной борьбой,
Поглотившей все силы твои…
Я представил, как на скамейке сидит отец, грубыми пальцами перебирает клавиши старого баяна и безразлично смотрит в угол, где копошится тень матери. Мать оборвала пенье, глухо заговорила:
Это чего же такое? Куды они запропали? Ну, Ванька — тот привычный, вечно бродяжит. А Пашка? Не случилось ли чего? Долго ли до греха?
Да будет тебе, надоела! — буркнул отец. — Народила язычников. Прогневишь господа жалостью своей. Богохульниками да поносителями слова божьего растут.
Мать вздохнула и забренчала посудой. Я бесшумно двинулся к крыльцу. Все продукты мать хранила в ларе, в сенях. Я нажал на дверь, она открылась. В пробое ларя замка не было — вот удача–то! Приподняв одной рукой тяжелую крышку, я засунул руку в ларь и сразу же ухватил большой калач, и тут распахнулась из дома дверь и на меня упал свет. Передо мной стоял отец, черный, освещенный со спины.
Явился?! Жрать захотел?! — проговорил он. Я съежился, обмер, ожидая ударов и пинков. Отец стиснул железными пальцами мое ухо и повел меня в кухню. Я забыл бросить калач, так и тащил его в руке.
Полюбуйся на своего стервеца, — рявкнул отец. Мать ахнула, всплеснула руками, закричала:
Где это ты пропадал, холера?! Накажет тебя господь, накажет! Будешь на том свете лизать раскаленную сковородку!
Спину мою жег солдатский ремень. Отец даже крякал, хлеща меня. А я орал и извивался от боли.
Я ПОПАДАЮ В ИНОЙ МИР
А через несколько дней вот что случилось.
Тетя Тася прислала мне из Барнаула деньги, чтоб я приехал к ней в гости.
Ишь ты, видно, деньги дурные завелись, — проворчал отец. — Собирайся быстрее, а то на пароход не успеешь.
Мать вытащила мне из сундука белую, с вышитыми обшлагами и грудью украинскую рубаху, черные суконные штаны и ботинки.
Пароход швартовался к пристани, когда мы с от–дом покупали билет. Отец дал боцману полсотни, чтобы он присматривал за мной в дороге, и ушел. Боцман увел меня на верхнюю палубу, открыл дверь и сказал:
Вот твоя каюта. На пристанях на берег не шляйся, а то отстанешь. За борт не свались. Есть будешь в ресторане. Он там, на носу.
Каюта мне понравилась. В ней был диван с постелью, тумбочка с лампочкой под абажуром. У двери какая–то белая штука, похожая на умывальник. Я надавил на рычажок, и струя брызнула мне в лицо. Я отскочил, испугавшись. Потом плюхнулся на упругий диван и с удовольствием закачался на нем…
Сойдя в Барнауле на пристани, я растерянно остановился среди толпы, не зная куда идти. И тут кто–то закричал:
Павлик! Павлик!
Я обернулся и увидел женщину в красном платье, в белых туфлях. Волосы у нее рыжие, а брови черные, и глаза тоже. От женщины хорошо пахло цветами.
Павлик! Это же я, тетя Тася! — весело воскликнула она, прижав меня к себе. — Какой ты стал большой! Весь в бабку! Я тебя сразу узнала. — И она повела меня к себе домой…
Теперь я уже смутно помню, как я прожил тот месяц у тети Таси. Театр, кино, парк, мороженое, такси, магазины — все это слилось в один радостный праздник. Но самое главное было в том, что я почувствовал себя человеком. Я живу, я думаю, я дышу, и вокруг меня такие же свободные люди, а не безгласные исполнители «воли божьей», «слова божьего». Такой жизни я коснулся впервые. Как она не походила на мою прежнюю жизнь! О молельном доме я вспоминал со страхом и отвращением.
Вернулся я домой в новом костюме, с новеньким чемоданом, набитым рубашками, играми, конфетами. И еще в руках у меня были лыжи и коньки!
Шел я по берегу. На другой стороне, в ярких заливных лугах, по пояс в траве, мужики взмахивали литовками, косили отаву.
А вот и кирпичный завод. По огромному деревянному кругу сонно ходили два быка, крутили глиномешалку. Она уныло потрескивала, а парень, что сидел на рычаге, вяло подгонял быков палкой. Колесо под сиденьем парня скрипело жалобно и надрывно. Формовщики наполняли глиной формы и таскали их к полкам.
Август уже уходил. В воздухе летали серебристые паутинки с паучками.
Дома никого не оказалось. Я оставил чемодан в сенях, вошел в свою каморку, взглянул на лежанку, застланную драным одеялом, на серые, унылые стены.
«Как же далыпе–то жить теперь? — подумал я с горечью. — Когда же я уеду отсюда навсегда?»
Приехал, сынок?! Да где ты? — услышал я крик матери. Я вышел из своей комнаты. Мать держала мой чемодан и смеялась. Я взял у нее чемодан и раскрыл его. Тут появился отец, и они стали рассматривать, что мне подарила тетя Тася.
Вот костюм, это дело, а остальное — пустая трата денег, — заметил отец.
Мне неприятно было это слышать. Я утащил чемодан к себе в комнату. Скоро прибежал ко мне Ванюшка, весело крикнул:
Здорово, путешественник! — и пожал мне руку. Осмотрев мои сокровища, он озабоченно сказал:
Знаешь, с дедом плохо!
А что с ним?! — забеспокоился я.
Мама сказала, что от пьянства удар у него был. Он же последнее время все пил. Это из–за Фени. Закрывался в мастерской и пил. А потом начинал кричать, петь, плакать.
Я заглянул в комнату к деду. Он лежал на кровати поверх одеяла, одетый в новый праздничный костюм, в белоснежную рубашку, словно собрался в гости. Его волосы, борода, усы были аккуратно подстрижены. Здорово изменился дед, пока я ездил. Он как–то усох, стал меньше, старее.
Деда, а почему ты оделся так? —спросил я, чувствуя, что на глазах моих выступают слезы.
Нельзя трогать усопшего человека, — тихо и медленно объяснил он. — А то ворошат его… Туда–сюда перекладывают, обмывают, одевают. Страшно ведь это живым и противно. А я сам себя приготовил. И не трожьте меня. Сам оделся, сам улегся.