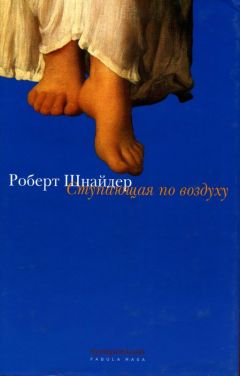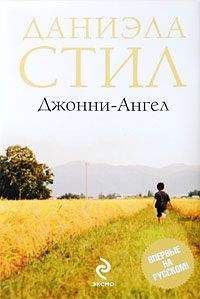Анатолий Соболев - Награде не подлежит
Подполковник оторвался от чтения и как-то непонятно взглянул на Реутова.
— Справка недействительна, — сухо сказал он.
— Почему? — Константина Федотовича кинуло в жар. Будто подделал он эту проклятую справку и теперь вымогает награду.
— По статуту медали. Вы пробыли на Севере до окончания войны меньше, чем положено для награждения.
Реутов растерянно пожал плечами. Всех награждали тогда. И Хохлов, и Дергушин награждены, а они вместе, в один день, прибыли на Север. И ему вот эту справку выдали. А теперь хоть со стыда провались.
— Мы отберем ее у вас, — холодно и каким-то усталым голосом сказал подполковник.
— Как хотите, — ответил Константин Федотович, сгорая от стыда и желая только одного — поскорее кончить это нелепое дело. Черт дернул его сунуться с этой справкой! И чтобы хоть как-то оправдаться (а зачем оправдаться — и сам не знал, просто неловко было перед военкомом), сказал: — Всех награждали.
— Что же вы не получили? — недовольно спросил подполковник.
Ему было жаль этого запасника, он понимал его состояние, но переступить букву закона не мог. Он охотно верил, что тогда, сразу после войны, награждали, не очень соблюдая статут, и, конечно, прав этот водолаз, что «всех награждали». Но это — тогда.
«В госпитале лежал», — чуть было не сказал Константин Федотович, но вовремя спохватился. Военком наверняка заинтересуется — почему. Недаром он уже спрашивал про справки о ранениях.
— Так получилось.
Подполковник остался недоволен ответом.
Он вручил Реутову Удостоверение участника Великой Отечественной войны, крепко пожал руку и, чтобы как-то загладить свою вынужденную педантичность, чтобы смягчить неприятное впечатление от встречи и сказать что-то ободряющее этому, видимо, совестливому человеку, добавил:
— Поздравляю вас, Константин Федотович, с наступающим Днем Победы!
— Спасибо. Вас тоже, — улыбнулся Реутов и облегченно вздохнул — кончилась пытка.
Подполковник взглянул на часы, было уже одиннадцать минут третьего, начался обеденный перерыв.
— Приходите на открытие памятника павшим. Девятого мая будем открывать, — пригласил военком.
Когда Реутов вышел, подполковник снова взглянул на часы, было уже пятнадцать минут третьего. Он достал из ящика стола пакет с бутербродами и нашумевший детектив, в котором было не дочитано несколько страниц. Этот детектив, который ему дали почитать на короткий срок, так увлек его, что он принес книгу даже на службу, желая дочитать в обеденный перерыв. Но сначала надо было все же покончить с этим водолазом. Военком любил порядок в деловых бумагах.
Подполковник снова открыл «Личное дело» Реутова и на миг вспомнил, чем запасник возбудил в нем интерес, когда он прочитал, что тот — водолаз. Посылая повестку, ему думалось, что специальность водолаза на войне связана с какими-то секретными заданиями, например, с высадкой подводного десанта в тыл противника или с раскрытием тайны какого-нибудь затонувшего корабля. А оказалось — они ровняли «постели». Подполковник усмехнулся этому термину. На мгновенье он вспомнил тонкое, будто сожженное какой-то внутренней болезнью лицо лейтенанта запаса с умными, все понимающими глазами и снова пожалел; что не удалось как-то отметить этого ветерана ради Дня Победы. Он немало знал фронтовиков, у которых не сохранилось справок о ранениях и которые не помнят номеров госпиталей, где лежали, не помнят номеров своих воинских частей, и он всегда помогал им, считал это своею первостепенной обязанностью: делал запросы в Центральный архив Министерства обороны СССР или в Архив военно-медицинских документов, наводил справки, требовал, напоминал... И был очень рад, если удавалось кому-то помочь, всегда был рад вручить бывшему фронтовику награду.
У этого же лейтенанта запаса не было ничего, даже справка и та оказалась недействительна. А жаль! Очень жаль, что этот ветеран награде не подлежит...
И подполковник взялся за книгу.
Закрыв последнюю страницу детектива, где все, как он и предполагал, окончилось благополучно для нашего разведчика, военком откинулся на спинку кресла, все еще переживая напряжение увлекательных и острых событий романа.
А Константин Федотович сидел в это время неподалеку от военкомата в небольшом скверике и курил сигарету. Как все же неловко получилось с этой справкой! Ну зачем ему теперь эта медаль! Никогда он о ней и не думал. Жив остался — вот высшая награда! Колосков умер в госпитале, Лубенцов задохнулся, Кинякин подорвался. А сколько ребят остались покалеченными после кессонки, с парализованными руками-ногами...
Вернулся он, когда фронтовики уже отгуляли, когда кончился дым коромыслом и солдаты уже привыкли к гражданской одежде. Домой, в деревню, он не поехал, остался у брата в городе. Старший брат обрадовался несказанно и все хвастал своей жене: «Во, Римка, гли-ко, братка мой — моряк!» А она розовела, смуглыми скулами, и глаза ее наливались темной водой. Гладкая жена была у хромого брата, не оголодала за войну, продавщицей при хлебе состояла.
Приезжала мать, звала в деревню — дом пустует, соседская девушка ждет. Костя не захотел возвращаться. Брат на уговоры матери говорил: «Да мы ему тут такую девку отхватим! Закачаешься! Лучшую в городе! Чего там Варька ваша — лаптем щи хлебает. Да за такого парня мы иль парикмахершу, иль продавщицу окрутим». Мать повздыхала-повздыхала, смирилась — отрезанный ломоть и второй сын. Уехала домой, тая обиду. А брат все просил, чтобы Костя не снимал матросскую форму, и водил его по своим дружкам и знакомым, хвастал: «Во братка мой, морячок. Всю войну наскрозь прошел, на дне морском все облазил». И подбивал Костю жениться, невест подыскивал.
Гулял Костя, забыв про бомбежки, про холодную глубину моря, про утопленников и мины. Но порою среди хмельного праздника, в который превратились первые дни возвращения, вдруг прошибал его жаркий озноб. Для всех война кончилась, для него не кончится никогда, поставила клеймо. Под пьяную руку рассказал Костя брату про свой недуг. Брат был потрясен, напился в тот вечер, плакал, стонал: «Нахлебался ты, братка, морского рассолу!»
Однажды ночью к Косте пришла Римка, брат был на заводе в ночную смену. Когда он отказался со злой удивленностью зашипела: «Да ты и вправду! О-о, значит, Генка не соврал. А я-то не поверила. Увлеклась, дурочка». Костя понимал, что врет она про увлечение. «Тварь! Курва! — думал он. — И как с ней Генка живет?» Но брату ничего не сказал. Днем, когда встречался с Римкой глазами, шея ее, как лишаями, покрывалась красными пятнами, губы ехидно поджимались. С того разу начала она сживать его со свету. Генка помрачнел и, отводя глаза, сказал как-то: «Ты, братка, не обессудь меня. Римка вон говорит, что стесняется тебя. Раздетой в уборную не пройти, понимаешь?» «Понимаю, — зло ответил он. — Подыщу вот место в общежитии и уйду», «Ты на меня сердца не имей. Я-то чо... я с милой душой. Женщина она ведь, говорит, что боится тебя. Одна с тобой ночью остается. Как-никак замужняя жена». «Потаскуха она у тебя, а не замужняя жена», — подумал он тогда, а вслух сказал: «Да не казнись ты. Уйду я. И сердца на тебя у меня нету». «Во и ладно, — обрадовался Генка. — Давай-ка промочим горло. У меня тут в заначке от нее есть...»
И пошла жизнь. Пролетела уже.
Одно время ударился он с тоски и безысходности в пьянство. Пил смертно. Но устоял на ногах, не пропил себя. Медленно выходил на поверхность жизни, как с большой глубины поднимался, с «выдержками», и алкоголь, как кессонка, не свалил его. Шофером стал первого класса. Видать, рассказы Лукича в госпитале оставили в душе след, и поманили Костю дороги. С Лукичом так и не довелось увидеться. Поначалу все откладывал, думал — успеется, а когда наконец решил навестить старого шофера, Лукича уже не стало — снесли на погост. До сих пор не может простить себе этого Константин Федотович. Ведь рядом жили, каких-то полсотни километров!
Исколесил он всю Сибирь. И в дальних рейсах глядя на землю свою родную, понял — жить надо! А был, был случай, когда пригнал он свою трехтонку в черемушник по-над Катунью, привез двустволку, зарядив ее как на медведя. «С двух стволов разом — и все!»
Усыпанная — листа не видно! — цвела черемуха, и хмельной горько-сладкий чад стоял в логу. В холодной белой накипи красовалась природа. Было зябко — когда цветет черемуха, всегда холодает. Как он удержался тогда! По самому краешку пропасти прошел, но устоял.
Дублетом саданул в голубое высокое небо, и долго осыпался черемуховый цвет ему на голову. И если бы кто увидел со стороны, подумал бы, что седеет он на глазах. А он и впрямь с той поры седеть стал, будто прикипели к волосам белые черемуховые лепестки.
Долго лежал он пластом на весенней земле, набираясь сил для новой жизни. Дал твердый зарок тогда — будет жить! За погибших. Они не простили бы ему, что кинул жизнь псу под хвост. Лубенцов сказал бы: «Трус!» А мичман отвернулся бы навсегда. Наложить руки на себя легче, чем по жизни пройти. Тут надо мужество, может большее, чем на войне...