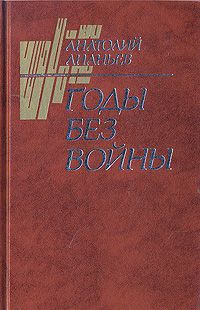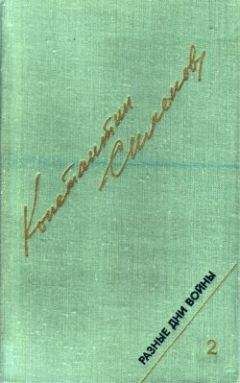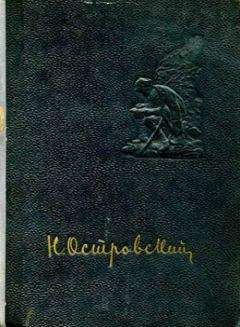Анатолий Ананьев - Годы без войны. Том второй
Председатель и Лукин, оставив машины на дороге, вышли к полю. Хлеб здесь был уже скошен, лежал в валках, и все поле представляло собою облысенное пространство, по которому двигались комбайны, подбиравшие валки. Комбайны поднимали над собою желтоватую пыль, и облака этой пыли, отгоняемые ветром, оседали затем на жнивье и на копнах соломы, видневшихся повсюду. Поравнявшись с председателем и Лукиным, комбайны остановились.
— Ну что, начал? — подойдя к агрегату, которым управлял Сошников-старший, прокричал Парфен, чтобы за шумом мотора слышен был его голос. — По скольку думаешь взять?
— По сорок — сорок пять, не меньше, — прокричал в ответ сверху, из кабины, Сошников-старший, повернув к председателю почерневшее от пыли и с потеками пота свое белозубое веселое лицо. Точно такое же черное и с потеками пота выглядывало из-за его плеча лицо жены, помогавшей ему.
Возле второго комбайна, спрыгнув на землю, стоял Сошников-младший со своей молодой женой и прислушивался к разговору.
— Так по сорок или по сорок пять?
— По сорок наверняка!
— Ну молодец, давай! — И Парфен сделал тот жест рукой, по которому комбайны снова двинулись вперед, поднимая пыль и вываливая за собой копны соломы.
Поле это, по которому комбайны удалялись и на которое, кряжисто стоя на стерне, смотрел Парфен Калинкин, было для него не просто полем — тем очередным, чуть лучше или хуже, каким оно должно было представляться Лукину, — но было гордостью, детищем, было тем будущим, каким он хотел видеть все в своем хозяйстве; и от вида этого поля и валков на нем, по которым ясно было, что Сошников-старший был прав, и от самого разговора с Сошниковым, важного для Парфена более тем, что начальство слышало этот разговор, и, главное, от тех своих мыслей (что даст эксперимент), которые еще со вчерашнего дня, как только стало известно о приезде Лукина, занимали Калинкина, он испытывал чувство, когда ему хотелось говорить; и он живо и с намерением сейчас же начать нужный разговор повернулся к Лукину. «Ну, каковы у меня люди и каково вообще это дело, какое я провожу здесь?» — радостно спрашивали его глаза, в то время как он уже смотрел на Лукина. Но того ответного чувства, какое он ожидал увидеть на лице секретаря райкома, он не увидел; и потому он не стал ничего говорить Лукину. Он уловил (по этому выражению его), что начальство еще не готово, чтобы проникнуться сутью дела, и что Лукин, как, впрочем, и те предыдущие секретари, с кем Калинкин имел дело и которых пережил на своем посту, принадлежал к разряду руководителей, которые более раскрываются душой не на поле, не от зрелища комбайнов, машин и буртов зерна, что показываются им всюду и уже не воспринимаются ими, а за столом, при виде яств, рюмок и в той атмосфере бесед, где все, что будет сказано, не есть оценка или обязательство, но есть та информация, из которой — надо затем еще помудрить, чтобы выяснить, чего хочет начальство и что будет одобрено им. Калинкин почувствовал это так верно, что сейчас же взглянул на часы, затем на Лукина и опять на часы, и так как распоряжение насчет обеда было еще утром сделано им и было теперь время обеда, он предложил Лукину вернуться в село, чтобы перекусить что-нибудь, как было скромно сказано им.
— Ко мне, если не откажете, буду рад, — уточнил он, щурясь как будто от солнца, но более по той не замечаемой уже им привычке, как он всегда смотрел на начальство, которое, как ему казалось, он видел насквозь.
— Что ж, и это надо, — сказал Лукин, хотя чувствовал, что следовало сказать другое, что относилось бы не только к этому полю, на котором он стоял сейчас с зеленолужским председателем, или к комбайнеру, с которым председатель минутою раньше говорил, а ко всему, что было показано Лукину в хозяйстве и оставило впечатление; он чувствовал, что надо было сказать те слова одобрения зеленолужскому председателю, которые он заслужил и ждал, но слов этих не было у Лукина; они заслонялись теми мыслями, далекими от партийных и государственных дел, которые то с меньшею, то опять с большею, как теперь, силою вдруг наваливались и начинали одолевать его. И мысли эти были о том сложном его положении — как быть с Галиной и как быть с семьей? — из которых он хотел и не видел, как выпутаться ему.
Выехав из Мценска в тот день, когда Галина получила известие из Москвы о смерти сына (телеграмма пришла уже после его отъезда), Лукин затем, на третий день поездки по району (и как раз накануне приезда в Зеленолужское), завернул в совхоз к жене и дочерям, чтобы повидать их. Весь подготовленный внутренне к той своей ложной роли любящего отца и мужа, какую он, обнаружив, что несложно было вести ее, разыгрывал теперь всякий раз, приезжая домой, он, поднявшись на крыльцо, увидел, что дом его на замке. Вместо обычной шумной радости, с какою дочери его выбегали к нему, цепляясь и вешаясь на руки и шею, вместо исполненного достоинства и счастья взгляда жены, каким, открывая дверь, встречала его Зина, он услышал из-за плетня голос соседки, позвавшей его, чтобы передать ему ключи от дома. На вопрос, где Зина, соседка ответила, что она с детьми уехала в Орел. «К сестре», — сейчас же решил Лукин, знавший, что двоюродная сестра жены живет в Орле, и не любивший ее. Причины отъезда могли быть разными (могло случиться, что сестра заболела, или что-то еще подобное), но Лукин сейчас же почувствовал, что причина была только та, которой он более всего опасался, что она откроется жене и осложнит все. «Она узнала и она уехала. Что теперь делать и как быть?» — думал он. И вопрос этот все утро, пока Парфен Калинкин возил его по хозяйству, отвлекал Лукина. «К ней, а что я скажу ей? Как все гадко, все, все», — продолжал размышлять Лукин, садясь в машину, чтобы ехать в деревню.
Он казался мрачным и недовольным, в то время как Калинкин (со своим взглядом на то, как он понимал молчание Лукина, и с практическим подходом к делу) не только не был огорчен, но, напротив, еще более как будто был спокоен, точно зная, как ему теперь с пользою для себя обойтись с Лукиным. «То ли уж место такое этот райком, то ли подбирают таких, — думал он, удивляясь этому своему открытию, какое вывел из наблюдения за Лукиным (как он прежде выводил это из наблюдений за Сухогрудовым и Воскобойниковым). — Посмотрим, однако, посмотрим, а то ведь можем и так, как правление решит». И он весело и с прищуром поглядывал то на шофера, то на приближавшиеся избы деревни, то оборачивался и смотрел, не отстала ли «Волга» Лукина и не нужно ли подождать ее.
XXVII
Как у большинства деревенских людей, дети у Калинкина, выучившись, жили в городе, и он чувствовал, что не мог с теми же требованиями, какие считал безусловными для других, подходить к ним. «Кому-то и там надо быть», — сейчас же рассудительно говорил он, как только речь заходила о его детях. И он бывал доволен тем, что то одна, то другая невестка, то дочь с мужем и детьми (и в разное время года) гостили у него в деревне.
В это лето гостила невестка Ульяна, бывшая за младшим сыном Парфена. Она приехала с двумя маленькими сыновьями и была (опять уже!) на седьмом месяце беременности, то есть в том положении, когда ей нужен был воздух, нужны были движения и нужно было (при всей э т о й некрасивости своей, как считалось теперь между молодыми женщинами) не быть постоянно на глазах у мужа. К невестке этой Парфен испытывал то особое расположение (по крестьянской натуре своей), что она была многодетна и что, несмотря на городское происхождение, была более (не по внешнему виду, а по характеру) деревенской, чем те, для кого нравственный дух деревенской жизни должен был быть родным.
Войдя теперь с Лукиным во двор и увидев Ульяну. с детьми, игравшими возле крыльца, Парфен подошел к мальчикам и, присев перед ними на корточки, сейчас же заговорил: «Ну-ка, ну-ка, кто такие, как звать?» — перенося на них свое расположение к невестке, которого не мог скрыть в себе.
— Ульяна, жена младшего моего, — затем не без гордости сказал он Лукину, представляя невестку. — Ходить надо, ходить, — уже невестке проговорил он, намекая на ее положение, глядя на ее живот и смущая ее перед Лукиным ее беременностью. — Ходить, ходить, — повторил он с той интонацией заботы о ней, что нельзя было обидеться на него или как-то по-дурному истолковать его слова.
«Как они должны быть все счастливы», — подумал Лукин, смотревший на Парфена, мальчиков и невестку. Он подумал об этом с той мучительной для себя болью, что он не имел теперь этого счастья. Вместо этого счастья он имел Галину, с которой уже не мог быть самим собой, как не был самим собой и с дочерьми и женой, уехавшими теперь от него в Орел. Он опять с живостью представил все свое положение тонущего человека, когда не то чтобы некого было крикнуть на помощь, люди вокруг были, но стыдно и невозможно, как будто он был не одет, позвать их; и он только с улыбкой, отражавшей его мысли о себе, продолжал смотреть на Парфена, мальчиков и невестку. Лицо невестки (по беременности ее) было заострено и некрасиво; по-деревенски гладко были причесаны ее волосы; на голых от плеч руках ее, на шее и по лицу заметна была та проступавшая коричневая пигментация, которая понятно было, от чего она происходила; но именно это внешнее, что делало ее как будто некрасивой (как женщины в ее положении обычно думают о себе), как раз и привлекало Лукина, производило на него впечатление и вызывало чувство, будто главный смысл жизни, какой он всегда как идеал носил в своей крестьянской душе, — главный смысл жизни был отнят и растоптан у него. Он вспомнил о Зине, когда она была беременна своим первым ребенком и была такой же некрасивой и с пятнами на коже, как и невестка, стоявшая теперь перед Лукиным, и по какому-то необъяснимому, но ясному для самого себя ходу мыслей он понял, что́ ему надо делать в его запутанном положении. Ехать к ней и просить у нее прощения. «Да, да, только одно это, — мгновенно подхватил он. — И как я мог позволить себе с Галиной? Затмение, туман, как я мог, когда у меня было это счастье». И он по-другому увидел тот пароход с людьми, цветами и музыкой (что связывалось в его воображении с Галиной), на палубу которого так хотелось ему войти. Он был теперь на палубе, но ни цветы, ни музыка, ни громкие вокруг голоса людей не радовали его. Чему радоваться, когда отдалялась земля, когда уже видна была только узкая кромка, а впереди — лишь зыбкое и бесконечное пространство моря. Надо прыгать с палубы, пока не поздно, и плыть к берегу, к земле. «Надо ехать в Орел, к ней и детям, — мысленно сказал он себе. — Сейчас же, сегодня, в ночь, туда, где нет качки, а есть твердая земля, где все основательно и есть к чему приложить ум, руки и силу». Его потянуло теперь к Зине не потому, что он понял, что любит Зину и не любит Галину; он думал о той жизни, том спокойном и простом семейном счастье, о котором, что оно есть на земле, так живо продолжали напоминать ему невестка с мальчиками и Парфен, возле которых он стоял, глядя на них; и жизнь эту, то есть ту счастливую возможность отдаваться делу, которой теперь не было у него, он сознавал, могла дать ему только Зина. «Да, к ней, чего же еще искать и думать?»