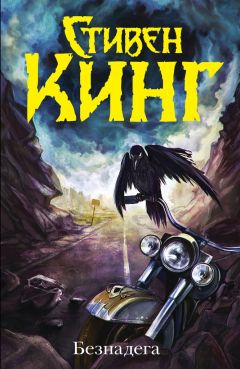Анатолий Приставкин - Городок
— Не купит он приемника, в том-то и дело, что не купит, сквалыга он страшный. Сил нет смотреть, какой жадный. Ничего не выбрасывает, а копит и копит. Мучается в темноте, но даже батарейку экономит купить, я ему уже второй раз вставляю свою собственную. Он даже с женой своей из-за жадности поврозь питается. Поест, а потом еду в шкафчик на ключ запирает...
Брошенных деревень в их поездке попадалось немало, но это были все небольшие деревни, несколько домов. А вот одна попалась особенная. Шохов и название запомнил: Елганцы. Как же замечательно она стояла! Улицей вытянулась вдоль речки, окошками на воду, и сплошь в зелени, на крутом берегу. Дома были рубленые, высокие, без единого изъяна, не дома, а деревянные дворцы! У каждого — железная крыша, крытый большой двор, с колодцем, с сеновалом, свинарником и коровником, амбаром и другими нужными постройками.
Когда Шохов впервые вошел в такой дом, стоявший у края, даже не в дом, а крытый двор, он своего несдержанного братца одернул: смотри, мол, тут, видать, кто-то живет. На что Мишка лишь отмахнулся: «Никого тут нет, я точно знаю».
И Володька, который в этот день увязался с ними на своем мотоцикле, тоже подтвердил:
— Мы сюда уже ездили! Здесь никто не живет.
Шохов верил и не верил, уж больно все было как при хозяине во дворе: тележка на колесах, инструменты в углу, досочки, сложенные рядком, банки-склянки разные.
По ступенькам поднялись они в просторные сенцы. И тут все на месте, как в доме у самих Шоховых. Справа лабазня, ларь для муки, над ним полка с посудой, несколько сразу ламп «летучая мышь», самовар в копоти, старые учебники, портфель тут же, стеклянные разные банки и бутылки. Слева вход в избу зимнюю, справа в летнюю.
Не без робости, но и не без любопытства, стараясь не греметь дверью, словно боясь кого-то разбудить, вошел Шохов в жилое помещение: и тут все было на своих местах, и, более того, даже пол помыт и выскоблен добела.
Шохов огляделся, круглый стол, лавки, табурет, все самодельное и крепкое, буфетик, отгораживающий истопную, печь на деревянном основании с казенкой, а на ней семь пар валенок, поставленных рядком. Даже репродуктор на стене, электрический счетчик, подушечка со вколотой иголочкой на гвоздике и ухваты в уголке у печки...
Михаил, тот, конечно, сперва в чулан забрался, его всякие запчасти интересуют. А в чулане без разбора новое и старое свалено. Тут и сундучки кованые, расписные, кадушечки и туеса, корытца долбленые и тому подобное, а рядом карбюраторы, шестерни, а то прямо — головка цилиндра!
Шохов увидел деревянный ухват с колесиками, тоже деревянными, и поразился, какая тут работа. А Мишка ему тиски показал. Тоже целиком из дерева тиски, и зажим, и винт, и резьба: диковинное, словом, сооружение..
Шохов положил тиски и осмотрелся: травка сушеная и увязанная в пучок на гвоздике, иконы в уголке, семена в мешочке.
В это время внизу раздался какой-то звон, там орудовал Володька. К тому времени как Шохов спустило в подклеть, он, орудуя палкой, с каким-то непонятным удовольствием и азартом, перебил всю стеклянную и глиняную посуду.
— Зачем? — спросил только Шохов.
— Так,— сказал Володька, не переставая бить. — А зачем они?
— Жалко же?
— Чего жалеть? — сказал Володька.— Брошенно ведь. Все равно пропадет!
Шохов посмотрел и вздохнул. Брошено, а все равно жалко. Это же люди сделали! Кадушечки, туеса, прямо набор берестовой коробицы любого фасона с причудливы ми крышечками, плетенки, коробья, корзинки, липовые колоды для пчел, корчаги для взбивания масла и вообще непонятно для чего. А тут и прялки, как в той, первой увиденной Шоховым избе, и даже соха из дерева!
Шохову стало невмочь слушать, как Володька барабанит палкой, уничтожая добро, и он вышел на улицу, заросшую густой, никем не топтанной травой, как все вокруг. На это Шохов взглянул теперь как бы другими глазами. Яблони, никем не ухоженные, еще плодоносили, а черемуха, переспелая, черная, усыпанная, тянулась аллейкой по всей длине улицы от края до края, а за черемухой баньки небольшие, прямо у речки, напротив каждого дома своя.
Электрические провода гудели на столбах, хоть сейчас зажигай свет или слушай радио. Мишка, вышедший следом, подтвердил, что он сам здесь подстанцию монтировал: радио проводил и зерносушилку строил... А все зазря.
— А где же люди-то? — спросил Шохов странным голосом и сам себя не узнал.
— Какие тут люди? Было две или три семьи, их перевезли на совхозную усадьбу. Ну, где Афоня...
— Что усадьба, здесь место какое!
— Место ничего себе,— согласился Михаил.— А дороги сюда хорошей нет. В распутицу даже хлеб не подвезти. И магазина нет. Вот и уехали. А это,— махнул рукой в сторону домов, — продано совхозу на дрова... В моем коробьи — завелись воробьи!
Шохов недоверчиво посмотрел на брата.
— А полы?
— Чего полы?
— А полы тогда зачем помыты?
— А-а...— Мишка засмеялся.— Привычка! Я уж сколько замечал, как уезжают, все приберут, сложат и полы поскребут. Чтобы кто чужой не зашел, видел, что добрые хозяева жили.
«Какие же добрые хозяева добро-то свое бросают?» — хотел спросить, но не спросил Шохов. Отчаяние его взяло. Никогда он не думал, что сможет так переживать из-за какой-то деревни по имени Елганцы, которой он дотоле и не видывал никогда. Но которая напомнила о чем-то читанном, как в старину вымирали селениями от какой-нибудь чумы или холеры, а все потому, что именно прибрано и ухожено и вещи на местах, будто еще дух хозяев при доме и при хозяйстве, при деревне.
Кстати, при выходе из дому Шохов заметил на дереве, против окон станину (перекладина между двух стволов, специально вешать косу), а на станине, вот диво, висела целехонькая коса. Будто выйдет сейчас из дому хозяин, возьмет за косье и, закинув на плечо, пойдет по первой росе в луга, засунув лопатку, для точки, за голенище.
Но только деревья шумели под легким ветерком. Ни одного звука живого не раздавалось на улице. Ни квохтанья кур или кряканья гусей, ни мычания коров, ни детских голосов или криков. Даже страшновато стало Шохову, и позади, в пустынном доме, опять звон раздался, Володька с упоением добивал какую-то посуду.
Такой и запомнилась Шохову страшная эта деревня, с длинной травяной улицей в сорок с чем-то домов, и в каждый из них хоть сегодня заходи и живи. И никакого скарба своего не нужно. Даже дрова на зиму вдоль стенки сложены, даже сено под потолком в сарае, даже сани на дворе!
Господи, что же с миром случилось? Люди строят торопливо дома в пустых местах, как на КамАЗе, как в Илиме (Шохов и сам строил), а забрасывают их в другом. Люди теснятся в Москве, в пригороде, в поселке, а тут, на просторном берегу, среди садов, и полей, и густых лесов, не хотят жить. Будто не здесь родились, встали на ноги, научились понимать о мире...
Люди посуду приобретают, мебель разную, а ту, что служила веками, еще от дедов и прадедов, бросают, как ненужную. Неужто ни у кого из тех, кто отсюда уезжал, не дрогнула рука, не протянулась взять с собой хоть иконку из божницы, хоть прялку, хоть миску на память?
А ведь на новом-то месте купят шифоньер блестящий из прессованной стружки, столик гарнитурный на паучьих ножках,— локти поставишь, он уже качается! — стульев на клею, а вот эту табуреточку, смастеренную добрыми и умными руками и резьбой украшенную, и стол прочный, дубовый, вековой, считай, бросят не оглянувшись, не пожалев, как только чужое бросают.
Покидал Шохов неведомые ему Елганцы, как родное Васино оставлял в беде. Разве не понимал он, что еще год-два от силы, и не только Шоховы, но и другие покинут его деревню, будет она стоять такой же беззвучной, страшной как и эта. Не просто деревня, а его родина, его главное в жизни место. Ведь для кого-то и Елганцы были таким же местом?
Скоро Шохов уезжал.
С братьями простился, с матерью, с отцом. Делал вид что это прежде так случилось, что он не мог приехать, а теперь-то все по-другому и он скоро вернется опять... А про себя знал, чувствовал, что может и вовсе никогда не вернется. Так же, как и этот возврат был серединным водоразделом во всей его жизни, навроде какого-то итога. И в прошлой жизни он брал с собой только горький свой опыт, только жену с сыном и твердое понимание, что жить как жил, больше нельзя.
А то, что будет новое, то еще ему неизвестно. Как-то еще сложится, как сбудется, хоть желания, решимости сложить все навсегда и по-человечески было в нем больше чем когда-либо. А чем же еще может быть жив человек, как не надеждой?
Оттого в пристрое дома, увидев круглый отпил старого бревна, изъятого при замене Мишкой, Шохов взял это черный распил с собой, пообещав себе мысленно, что он врежет его в первое бревно, которое поставит в основании своего будущего дома.
В своем желтом молоковозе Афоня довез брата до избушечки на краю Тужей, где размещалась автостанция. Здесь толпился народ, а автобуса не было, и никто не знал, будет ли он вообще. Афоня по-быстрому смотал на маслозавод, сдал молоко, вернулся, а Шохов все торчал на утоптанной площадке, заметный издалека в своей голубой синтетической куртке среди других пассажиров. Тогда Афоня снова сгонял на какую-то базу и договорился насчет попутки, но попутка должна пойти лишь к вечеру.