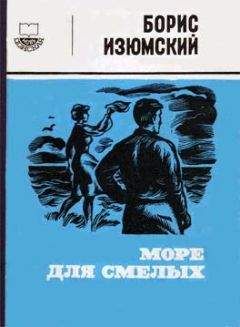Борис Горбатов - Донбасс
И он «брался» за отстающих, стыдил, ставил Сережку в пример, «накачивал». Он и сам еще был молод и неопытен, он думал, что стоит «накачать» человека, — и он полетит, как воздушный шар. Сложная наука воспитания человеческого характера была еще неведома ему; он просто и не умел разбираться в душевных тонкостях и настроениях ребят.
Он злился, кричал на них, срамил на собраниях, — помочь им он еще и сам не умел. Особенно Виктору.
А Виктору надо было помочь. С ним было совсем плохо.
11
Однажды утром Виктора разбудило какое-то странное дребезжание — нет, жужжание — оконных стекол. Он проснулся, вскочил, прислушался. Стекла жужжали. Казалось, тысяча звонких пчел бились в окна, требуя, чтобы их впустили…
— А-а! — с тоской догадался Виктор. — Зовет уже! — И вдруг почувствовал, что сегодня он никак не сможет заставить себя встать и пойти на шахту. Да и не хочет!
Он опустил голову на подушку — подушка была добрая, родная, — но глаз не закрыл. Перед его койкой по-прежнему висел плакат: «Шахтер, дай добычь!» Как всегда, слова сразу же бросились на Виктора, едва только он неосторожно повел головой. Сейчас эти слова были неприятны ему. Особенно второе, требовательное: дай!
— А я не хочу! — сказал Виктор и, натянув одеяло на уши, шумно повернулся на левый бок.
Стекла продолжали дрожать и тренькать. Это только спросонья могло показаться парию, что они жужжат. Они просто звенели, сотрясаемые необыкновенным хором гудков, никогда еще не бывшим таким согласным и дружным, как в это утро. Обычно гудки возникали поодиночке, отставая друг от друга на пять, десять, даже пятнадцать минут. А сегодня они взревели все вдруг, разом, словно сговорились растормошить Виктора.
Он спрятал голову в подушку. Не хочу! Не хочу вставать!
Но над ним уже наклонялся Андрей.
— Эй, вставай, вставай, Витя. Вставай, братику! Пора! — говорил он, бережно, но настойчиво расталкивая товарища, казавшегося ему спящим. — Вставай! Слышишь — гудки…
Виктору пришлось приподняться.
— Что это они сегодня взбесились? — недовольно пробурчал он, еще не решив, что делать — притворяться ли больным, или сказать прямо и дерзко: не желаю больше! — У, черт, как воют! — поежился он и не встал.
— Та я думаю, что то просто к празднику часы везде поставили по радио, — вот гудки и заревели разом, — объяснил Андрей. — А ты вставай, вставай, Витя! — умоляюще прибавил он. — Ну, что же ты, ей-богу! Ну, нельзя ж!
«Да, да, завтра праздник, седьмое ноября, — вспомнил Виктор. — Как же я не подумал об этом? Придется, значит, вставать. Ничего не поделаешь».
Он нехотя отбросил одеяло и стал одеваться. Андрей торопил его:
— Быстрей, Витя, быстрей!
Виктор вяло подчинялся. Своей воли у него уже не было. Послушно потащился за товарищем в умывалку, в сушилку, в столовую…
Из столовой, как всегда, вышли гурьбой, во главе со Светличным, и гурьбой же пошли к шахте. Когда-то, в первые дни, Виктору нравилось и наблюдать и самому участвовать в этом торжественном утреннем шествии на работу. В этот ранний час никого, кроме шахтеров, кет на улицах поселка, как на поле боя нет никого, кроме воинов. Зато шахтеры — везде. Со всех сторон сходятся они к шахте. Гуськом, по бесчисленным тропинкам идут они через степь; спускаются с холмов, переходят балки, где в одиночку, где группками, кто — торопливым шагом, кто — даже бегом; но все это по-утреннему молча, даже как-то сурово, торжественно; громких голосов нет, разговоров и смеха не слышно, только изредка раздаются возгласы приветствий — как перекличка часовых в тумане… Чем ближе к поселку, тем все больше густеют шахтерские цепи; в светло-розовой дымке утра обушки кажутся Виктору боевыми секирами, огни лампочек — факелами, не раздутыми до поры… Что-то грозно-воинственное есть в этом движении черных людских толп через степь, может быть, оттого, что все движутся в одном направлении, словно связанные общим тайным согласием, единой волей и одной целью. Здесь, как в армии, нет случайных, посторонних людей; есть незнакомые, но нет чужих; все люди разные, но все шахтеры. Через час все это дружное войско будет уже рубиться под землей.
А пока оно властно захватывает улицы поселка. На всех перекрестках присоединяются к нему новые отряды вооруженных людей; из всех переулков, дворов и палисадников выходят и вливаются в молчаливый поток новые вооруженные люди, и у всех у них общее оружие — топор или обушок и единая воинская форма — черный шахтерский «бархат».
Об одном только горевал тогда Виктор, что и сам он и его товарищи еще не выглядят настоящими шахтерами. Всякий сразу заметит это, только глянув на их новенькие, чистенькие спецовки, на их робкий, цыплячий вид…
Сейчас горевать было не о чем. Уже никто не отличил бы наших ребят от заправских шахтеров. Они чувствовали себя на руднике как дома. Они смело шагали по улице. Их спецовки давно уж не были ни новенькими, ни чистенькими, они повидали виды, от них крепко пахло углем и шахтой, как от шипели бывалого солдата пахнет порохом и окопом… Единственное, что выделило ребят в общем молчаливом потоке, — это звонкая резвость их голосов.
Они шли по улице, весело болтая на ходу.
— А я умою сегодня Митю Закорко! — хвастался Сережка Очеретин. — Я его перекрою, вот плюньте мне в глаза, если совру…
— Да, это хорошо б, кабы удалось встретить праздник каким-нибудь рекордом! — отозвался Светличный.
— Меня, ребята, лес держит! — сказал Осадчий. — Черт его знает, что у нас с лесом. Ты б на это обратил внимание, Светличный!
— Лес действительно не стандартный, — вставил Андрей и вздохнул. — Много времени зря уходит на подгонку…
Виктор не участвовал в разговоре. И не хотел и не мог. Что сказал бы он ребятам? Они говорили только о шахте, все время о шахте. Они уже ею жили. Она сделалась главным делом их жизни. Для них шахтерский труд стал уже радостью, для него еще был постылой необходимостью. Черт его знает, отчего так неудачно вышло у него? Может, перевестись на другую шахту да там попроситься в коногоны? Все-таки коногонить веселее, чем рубать уголь. А еще лучше — поступить бы в кавалерийскую школу. И на границу. Куда-нибудь далеко-далеко, на самый Дальний Восток. В тайгу. Ловить диверсантов.
Ему никто не мешал мечтать и строить любые воздушные замки. Ребята словно забыли о его существовании, хоть он и шел рядом. Даже Андрей, увлеченный беседой со Светличным, не трогал его. И когда Виктор остался, наконец, один в своем уступе, он был не более одинок, чем все утро на людях, на поверхности.
Он даже обрадовался этому одиночеству в первый раз в своей ребячьей жизни.
Работать ему не хотелось. Он, правда, заправил зубок, повертел обушок в руках, но тотчас же и отложил в сторону. Он еще успеет сбить руки в кровь. Все равно норму не вырубишь. А чуть больше половины или чуть меньше — какая разница!
Да, хорошо б в кавалерийскую школу!.. Или в дальнее-дальнее плавание. Плыть себе под парусами по всем морям и океанам и горюшка не знать. Он лег, подложил руки под голову и стал глядеть в кровлю. В ее матовом зеркале можно было, как на экране, увидеть все, о чем думаешь. Конечно, далекое плавание — это глупая детская мечта. Этого никогда не будет. И под парусами теперь никто не плавает. Но тайга — это возможно. Ну, пусть не пограничный отряд, пусть новостройка. Сейчас начато много строек в тайге… Говорят, в тайге, как и в шахте, нет неба. Его там из-за деревьев не видно. Но в тайге не так черно, как тут. Там все зелено, зелено, зелено… И хвоей пахнет… Кедр… Это та же сосна, но больше…
Незаметно он уснул. Но приснилась ему не тайга и не граница, а какая-то совсем необычайная, незнакомая, жаркая страна с высоким-высоким небом. И в этом небе, одновременно похожем на голубой Псёл, все время беспечно кувыркался и плыл Виктор, размахивая руками, как крыльями. И не было ничего счастливее этого парения.
Его растолкал десятник.
— Ну вот, полюбуйтесь! — с отчаянием вскричал он. — Вот какие у нас ударники! Как хотите, товарищ Ворожцов, а никаких больше сил моих с ними нету!..
— Да-а… — хмуро сказал человек, которого десятник назвал Ворожцовым. — Добрые люди к празднику с достижениями идут. А у нас вот какое достижение!.. — Он поднес свою лампочку прямо к носу Виктора и осветил его лицо. — Ты чей будешь? Кто? Как фамилия? — строго спросил он.
Но оглушенный Виктор ничего не смог ему ответить. Он сам еще не понимал, что с ним стряслось. Что тут произошло? Откуда взялись в его уступе эти двое? Кто они?
— Абросимов его фамилия! — сердито ответил за Виктора десятник. — Комсомолец.
— Комсомолец? — недоверчиво переспросил Ворожцов. — Совсем плохо. Сон на посту… да… За это, брат, в армии — расстрел. — Он опустил лампочку и коротко приказал: — Давай работай! Потом поговорим с тобой.