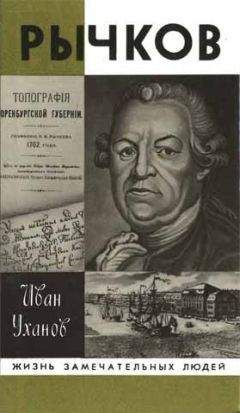Иван Уханов - Играл духовой оркестр...
— Хороший фельдшер, — сказал он, — и мальчик у нее мне понравился. Баянист.
— Учится помаленьку. Не знай, как дальше пойдет… Но слух у него цепкий, какой хошь мотив подберет.
— А Василий тоже любил музыку?
— Не скажу, не помню. Он ведь больше к рисованию тянулся, — сказал Шукшанов, помолчал озабоченный и добавил: — Сережа-то у Татьяны, сами понимаете, не от него, не от Васька… Не успели они ребенка заиметь.
Шукшанов посмотрел Фролову в глаза, увидел в них вопрос.
— Ничего плохого я про Татьяну не скажу. Женщина как женщина. Аккуратная, — сказал он и как-то стыдливо замолчал, посасывая козью ножку. Фролов тоже молчал. Ожидаючи, Шукшанов продолжил: — После войны Татьяна одна жила. Деревня поредела мужиками. А вдов-солдаток — хоть забор городи. А тут девки подросли — им тоже суженых подавай. Только где взять-то? Некоторые мужики петухами ходили, избаловались. Пробовали и к ней липнуть. Да попусту… Так и жила. За кого-нибудь замуж не хотелось, а доброго негде взять. А может, просто не везло. Говорят же, на вдове жениться что старые штаны надевать. — Шукшанов горько, совестливо улыбнулся. — А потом… Тут строители асфальтовую дорогу прокладывали. Бригада в селе у нас стояла. Инженер их — парень молодой… Будто бы с ним Татьяна любовь затеяла… Они-то уехали потом… Вот. А так женщина она чистая. И нас, стариков, не забывает. Одно жалко: Сережа без отца. Липнет к каждому мужику, кто приветит. К Николаю Березову пристрял. Тот его то на машине прокатнет, то на рыбалку утащит…
Фролова сперва удивила откровенность Антона Ивановича, теперь же он понял, что иным он сейчас и не мог быть, что эта встреча всколыхнула в нем память о сыне. И, защищая Татьяну Сергеевну, он как бы оберегал эту память.
Фролов осторожно складывал письма, фотографии, медали в старую холщовую сумку с большой пуговицей-застежкой. Антон Иванович подсел к столу и машинально помогал. В руки ему угодил погон с золотистой лычкой старшины и наградная колодка в цветных полосках.
— Во сколько меня награждали! Все тут нарисовано. — Он с легкой усмешкой вертел в руках колодку. — А вот у старухи моей никаких медалей. Да и ни к чему они ей. Они, бабы-то наши, с пулеметами не бегали, а, на мой сгад, начни их за труды и победы награждать, то небось и медалей не хватит. И ранениев у них поболее наших найдется. Да-а… Старуха моя сейчас тут, рядом, была бы. Капусту рубить надо, картошку рыть… А ей курорт приписан… В один месяц от Насти и Васька похоронки пришли. Старуху в тот год зараз скрючило. Я свои фронтовые ранения давно залечил, а она вон до коих пор лечит…
Помолчали. Фролов посмотрел в окно: сквозь ветки клена красными лоскутами проступал закат, в комнате темнело.
— Я пойду. — Он встал. — Извините, Антон Иванович.
Он мог бы еще посидеть, если бы нашел о чем говорить, но вопросы вылетели из головы. Лишь где-то в глубине назревали неясные, но строгие, как упрек, вопросы — не к Шукшанову, а к самому себе.
Антон Иванович легонько взял Фролова за локоть.
— Уходите? Дак чо ж мы… Погодите, в магазин Варю пошлю. По стопочке ради нашего дома… Сядьте, она мигом…
Фролов решительно и благодарно отказался. На крыльце ему встретился Сережа и, ласкаясь, завертелся, как котенок, зазвенел ломким голоском:
— Дядь Федь, меня на свадьбу приглашают с баяном, а учительница говорит: «Не ходи».
— Правильно она говорит.
— Дедушка, мама просила наточить, — Сережа подал Шукшанову железную лопаточку. — Завтра капусту будем рубить… А вы, дядь Федь, придете к нам?
— Постараюсь, — сказал Фролов и заметил перемену в лице Шукшанова: будто тень скользнула по нему.
— А я буду помогать обелиск строить? Дедушка, скажите, ведь я умею доски строгать?
— Давай приходи, беру тебя в помощники, — улыбнулся Фролов, пожал маленькую руку Сережи и увидел в его жадном просящем взгляде истосковавшуюся по отцовской ласке детскую душу.
IX
Уходя из дому, Фролов сказал Архиповне, что посмотрит клуб, кино. И теперь она встретила его вопросом:
— Хорошая кинцо-то?
— Хорошее, — соврал Фролов.
— Молочка парного, вечерешник, выпейте на ночь. — Она поднесла кружку.
— Спасибо, Анна Архиповна. — Фролов выпил. — А Николай еще не пришел?
— Где там… Ходит, гуляет, а кабы по миру да по чести… Никакого сочувствия. Приболей я завтра, вытянись, и некому возле постоять, воды поднесть…. И пошто упрямится?
— Ничего.. Обженим, — бодро сказал Фролов и почувствовал фальшь своего голоса, вспомнил, как эти же слова он говорил Архиповне вчера. Они были сказаны иным тоном, вчера было все иным, хотя в мире и этой комнате за сутки ровно ничего не произошло и вместе с тем во всем, что окружало Фролова, на что он смотрел, о чем думал сейчас, случилась какая-то перемена.
Он вошел в спальню. На высокой кровати голубовато белели ромбы подушек, тикал будильник, чернела пепельница, от стен все так же пахло сухим деревом — все это словно убеждало, что ничего не изменилось, и поэтому казалось Фролову обманом. Он вдруг почувствовал себя чужим человеком в этом доме, недостойным его гостеприимства и доброты.
Он сидел в темноте не раздеваясь. Мимо дома повалил народ из клуба. А когда на улице стихло, встал и вышел на крыльцо. На верхней ступеньке, в полутьме, неподвижно сидела Архиповна.
— Ай не спится? — спросила она.
— Да. — Фролов сел рядом.
Архиповна взглянула на него, помолчав, сказала:
— Бритву вашу я в тумбочку положила. Вы ее на стуле оставили. Думаю, чегой-то забыли побриться.
Фролов прошуршал ладонью по подбородку и удивился: действительно забыл.
— Степушка, бывало, зарастет в поле, а потом ворчит: лучше-де раз в году родить, чем день-деньской бороду брить. Шутник был покойник, царство ему небесное.
— Давно умер ваш муж?
— В прошлом году. — Архиповна вздохнула. — Мигом кончился Степан Данилыч. Помер, как на льду обломился. И болезней особых не имел, не хворал. Пастух. Весь на солнце, на воле. Закаленный, а поди ж — помер. Да… Живем шутя, а помрем вправду. С богом не поспоришь, его воля.
— Не болел, говорите. От чего ж тогда?
— С фронту Степушка с ранением воротился. Осколок крохотный гдей-то у самого сердца застрял. А вынуть его сразу не вынули. Рану-то перевязали наспех, зажила. Не мешала, коли не перетруждал себя Степушка работой. А уж сверх натрудится — зудела, покалывала. Хирург из района как-то присоветовал операцию, в область направлял. Степушка отнекнулся: что-де интересу ради резаться, рана не больно тревожит. Хирург его рентгеном просветил, махнул: обождем резать. Осколок, мол, в надежной сумочке, и к сердцу ему нету ходу. Да и возраст. И вот летось дюже жаркий день был. Стадо обалдело, коровы взыкали. Степушка набегался, намаялся. К вечеру раньше сроку стадо пригнал. И до дому чуть дошел, на крылечке и слег. Я к нему: чего, мол? А он лицом-то, как известка, забелел. «Фашист скребется, мать», — так он осколок называл. Я воды ему, а он и рта не разомкнул, кончился в минутки.
Архиповна замолчала, прислушиваясь к глухим шагам вдалеке. Вокруг было тихо, светила ясная луна, дорога казалась белой, а лампочка на уличном столбе — желтым пятном.
— Отчего так, господи? — вздохнула Архиповна. — Когда Ваню убили… Думала — на век отплакала свое. А оно вон как… А теперь кругом одна. Вот и пристаю к Коленьке. Может, зря я так к нему. Докончит институт, сам женится. Как же иначе? Но беда: не ищет он средь тутошних невесту. Может, где особая есть… А пока замечаю — возле соседки, фельдшерицы, крутится. Только какой прок? Небось на дюжину лет его старее. Зачем же заманывать, заслонять ему глаза на невест?.. Что с Коленьки взять? Ей мужик для семейной жизни нужен… Она тоже, не дай бог, натерпелась, наждалась…
Фролову вспомнилось лицо Татьяны Сергеевны — свежее, ясноглазое. Но пройдет еще лет десять и… Фролов год за годом прошелся по ее послевоенной жизни: долгие одинокие зимы, мокрые осени, томительные весны — они повторялись, неся с собой обновы земле, людским сердцам, судьбам. И только у Татьяны все как бы застряло на месте, все у нее затормозилось с того момента, с того далекого выстрела или взрыва, остановившего жизнь Василия Шукшанова, ее Васи.
— Так уж оно… Беда к беде, и за всех переживай…
Говорила Архиповна спокойно, с тихой печалью в голосе, в словах. Она не жаловалась, а словно бы доискивалась до чего-то, уразуметь хотела, почему жизнь ее складывается так и не иначе. Ведь совсем иначе могла бы она жить на белом свете.
— Вот вы памятник строите… Только это неправдашняя могилка-то будет. Где ж она, правдашняя, Ванина?
Фролов полез в карман за сигаретами.
— Анна Архиповна, я должен… хотел вам еще вечером сказать, — заговорил он после долгой паузы, заполненной тишиной и лунным светом. Он держал сигарету, но не закуривал. — Я одно время служил в одной части с вашим Ваней, знал его…