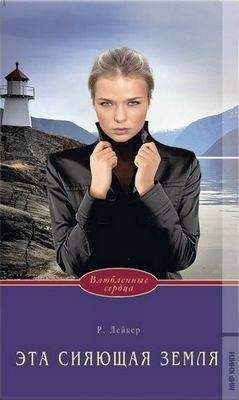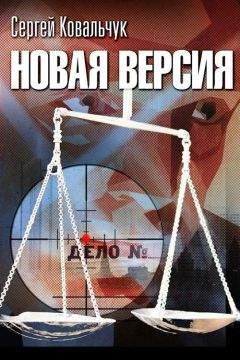Иван Кудинов - Сосны, освещенные солнцем
— Федор вот тоже по уши влюблен в пейзаж, — сказал Крамской. — Иногда такие штучки выдает — ахнешь. Вы, Иван Иванович, выберите как-нибудь время да посмотрите его работы. Ей-богу хороши! А вы, друг мой, — оборачивается опять к Васильеву, — не скромничайте и не теряйтесь, когда выпадает такая возможность.
Васильев радостно смотрит на того, на другого:
— Так я готов, для меня будет большой честью, если Иван Иванович найдет время посмотреть мои картинки. Готов хоть завтра… Хоть завтра, — повторил он, — если, разумеется, Иван Иванович найдет возможным…
— Отчего ж, можно и завтра, — с готовностью отзывается Шишкин, испытывая при этом горячее и нетерпеливое желание как можно скорее сойтись и познакомиться с этим юношей, понять его и, если надо, помочь, поддержать. Непременно поддержать!.. И мысль, как бы объясняющая и определяющая состояние души, настроение Шишкина: «Боже мой, да ведь я в России, дома… Какое счастье!»
* * *На следующий день, как и договорились, Шишкин пришел взглянуть на «картинки» Федора Васильева, жившего в родительском доме где-то на задворках дальних линий Васильевского острова. Дом деревянный, старый, с покосившейся калиткой.
Федор обрадовался, не думал, что Шишкин так запросто, без церемоний явится. Иван Иванович все в тех же панталонах и черном сюртуке, массивный брелок на серебряной цепочке… Настоящий франт, хотя последнее вряд ли можно было отнести к Шишкину — он терпеть не мог неряшливости, любил опрятность, но никогда не гнался за модой. Встретились как старые друзья.
— Ну-с, Федор Васильев, посвящай в свои тайны, — прогудел басом Шишкин.
Федору стало весело и страшновато слегка — таких гостей у них в доме еще не бывало.
— Проходите, Иван Иванович, — пригласил Федор, смущаясь и краснея. — Только у нас тесновато… и мастерская у меня — одно название.
— Ничего, брат, Москва не сразу отстроилась. Главное — душе нужен простор. А все остальное приложится. Ну-с?..
Они прошли в комнатку, служившую Федору мастерской, и Шишкин, слегка прищурившись, постоял привыкая, внимательно оглядывая стены, увешанные рисунками, пейзажными набросками, этюдами; карандаш, масло и акварель — все перемешано, собрано вместе, несоединимо… однако лишь с первого взгляда. А первый взгляд сначала схватывает общее, целое, потом углубляется в частности и детали, из чего, собственно, и складывается картина, создается образ…
Шишкин как встал посреди комнатки, так и стоял, не двигаясь, только голову поворачивал туда-сюда, а Федор стоял рядом с видом стороннего, равнодушного человека, но кто бы знал, что творилось в его душе!..
Шишкин изредка оборачивался к нему и опять молча принимался рассматривать пейзажи, небрежно развешанные и как бы даже случайно оказавшиеся в этой комнате — масло, гуашь, какой-то торопливый набросок карандашом… опять масло, гуашь… поле с мокнущими стогами, березка с уродливо искривленным стволом, далекий холм с гаснущим за ним вечерним заревом… Ишь ты, удивился про себя Шишкин, как он это тонко уловил. Щедро, щедро человек одарен!.. Он повернулся и теперь с еще большим интересом и любопытством посмотрел на Васильева, терпеливо и скромно стоявшего рядом, но отнюдь не покорного, а напротив, готового в любой миг решительно встать на защиту своего детища… В семнадцать лет нелегко быть самостоятельным, иному и в сорок этого качества недостает… А тут все резко, неожиданно, по-своему, хотя и не без издержек… Щедро, щедро одарен человек.
— Любите природу? — спрашивает Шишкин. — Любите, любите, об этом и спрашивать не надо — видно по всему… Вот оно ваше объяснение, — кивает на рисунки.
— А кто ж ее не любит, природу? — удивляется Васильев.
— Любить можно по-разному, — вздохнул Шишкин. — По-разному, мой друг. — И засмеялся сдержанно, весело, довольный тем, что пришел, и тем, что не ошибся в своем предположении. — А все-таки барбизонством попахивает от ваших картин.
— Это плохо? — быстро спросил Васильев.
— Ну не сказать, чтобы плохо… и вовсе не плохо, если учесть, что все у вас еще впереди.
— Писал я в деревне Константиновке, а не во Франции, при чем же тут барбизонство?.. — как бы даже обиделся Васильев. — Или есть нечто неизбежное для молодого художника, независимое от него?..
— Неизбежное, безусловно, есть, но независимым он должен быть сам прежде всего.
— Извините, а что такое барбизонство?..
Они разом обернулись, услышав этот голос, на лице одного из них отразилось веселое удивление, лицо другого выразило досаду и даже сделалось злым.
— Кыш-ш отсюда! — махнул рукой Федор. — Просили тебя?
Девушка стояла, привалившись плечом к дверному косяку, и не собиралась уходить. Темные волосы ее были слегка волнисты и мягко, свободно стекали по плечам. Она стояла, чуть откинув голову, отчего лицо ее казалось иронически-надменным, была она хрупковатой, тоненькой, но улыбка на бледноватом лице светилась женственно и обезоруживающе. Она смело смотрела на Шишкина, стояла все в той же позе, и Шишкин, не двигаясь с места, как бы пошел ей навстречу и тоже улыбнулся. И тут она вдруг чего-то испугалась, смутилась и выпрямилась:
— Простите, я только хотела спросить…
— Здравствуйте, — сказал Шишкин и обернулся к Васильеву. — Да полно, Федор, что ж тут такого… Познакомь лучше нас.
— Сестра, — буркнул Васильев. — Женька.
Она, ничуть не обижаясь, с какой-то милой кокетливостью поправила:
— Не Женька, а Женя, — и первой подала Шишкину руку. — Евгения. Старшая сестра, — она это особо подчеркнула, хотя, как выяснилось потом, была всего лишь на одиннадцать месяцев старше своего брата. — Старшая сестра вот этого несносного человека, — сказала и улыбнулась своей обезоруживающей, ясной улыбкой. — Скажите, Иван Иванович, разве он вправе от меня что-то скрывать?
— Не вправе, — поддался на ее удочку Шишкин, Федор тоже повеселел, да и по всему было видно, что отношения между ними добрые, сердечные, хотя Федор и пытался скрыть это за напускной грубоватостью.
— Ну ладно, ладно, а теперь убирайся, — говорил он. — Обойдемся как-нибудь без тебя.
— А вдруг не обойдетесь?..
— Обойдемся.
— А вдруг?..
— Кыш-ш!
Но Шишкин вступился за девушку:
— Нет, нет, так будет несправедливо. Пусть Женя остается… Тем более, мы еще не ответили на ее вопрос насчет барбизонства…
Шишкин стал частым гостем в доме Васильевых. Ему были рады. Особенно Ольга Емельяновна души в нем не чаяла, не знала, куда усадить да чем угостить желанного гостя. Доверительно говорила дочери: «Вот человек, добрый, серьезный, к Феденьке благоволит и тебя очень уважает…» Женя вспыхивала, как маков цвет, глаза светились: «Да что ты, мама, говоришь, Иван Иванович ко всем ровно относится…» И убегала прочь, сжимая ладонями горячие щеки, замирала где-нибудь в укромном уголке, будто вслушиваясь в самое себя: господи, что же со мной творится? Да ведь он почти вдвое старше меня, Иван Иванович, да и не нужна я ему… не нужна! А я себе вбила в голову бог знает что… Напридумывала. Женя давала себе слово быть сдержанной, даже холодной в отношениях с Шишкиным, но хватало ей выдержки лишь до первого прихода Ивана Ивановича — тут Женя будто теряла голову, будто подменяли ее, будто руководил всеми ее поступками кто-то посторонний, невидимый, всевластный… Да и Шишкин в присутствии Жени вдруг начинал говорить без умолку, что было и вовсе ему несвойственно.
Однажды, собираясь на этюды, Иван Иванович, глядя на Женю, не очень уверенно предложил:
— Поедемте, Женя, если хотите, вместе с нами… — И обернулся к Федору, как бы ища у него поддержки. — Как, Федор, возьмем с собой Женю?..
Федор пожал плечами, понимая, что в данном случае решающее слово не за ним. И удалился, давая возможность Ивану Ивановичу и Жене побыть наедине, странное чувство овладевало Федором — он дорожил дружбой с Шишкиным, ценил талант и бескорыстность этого щедрого, душевного человека, гордился тем, что Иван Иванович приходит к нему, к Федору Васильеву, и что вдвоем они могут неделями жить в лесу, под открытым небом, без устали работать, писать этюды, или, как любит говаривать Шишкин, «барбизонить», не надоедая друг другу ничуть, не тяготясь друг другом, напротив, постоянно испытывая желание быть вместе — природа связывала их, объединяла, и они здесь, среди богатырских лесов, как бы дополняли друг друга и вдвое становились сильней… И вдруг Федор обнаружил, открыл для себя нечто такое, что поразило его и несколько даже обидело: в последнее время Шишкин особенно часто у них бывал, подолгу засиживался, но причиной тому, оказывается, была Женя… да, да, Женя, которая во всех их делах как бы сбоку припека, вдруг становится главной причиной частых приходов Шишкина. Более того, Федор понял, что с Женей Ивану Ивановичу куда приятнее, нежели с ним, вот и на этюды он готов ее взять, и в разговоре с ней оживляется более, чем надо, становится либо неестественно скованным, либо излишне многословным… Федор в душе ничего не имеет против завязавшихся отношений между Женей и Шишкиным, да и смешно бы он выглядел, желая чего-то худого дорогим ему людям, нет, ничего, кроме добра, не желал он ни сестре, ни Ивану Ивановичу. Но душа была переполнена смутной тревогой, и Федор не знал, как совладать с собой, подняться над собою, над своими личными, эгоистическими интересами… Душа противилась чему-то, мешала здраво мыслить. А тут еще совсем некстати отец со своими неуместными вопросами: