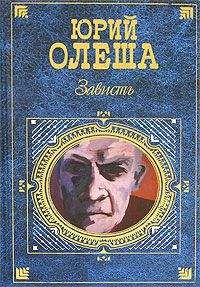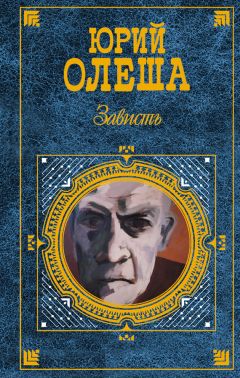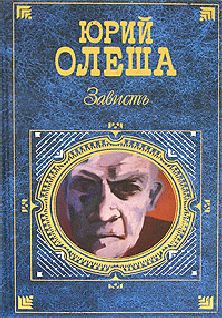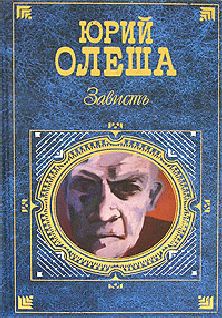Юрий Олеша - Ни дня без строчки
Потом все же звенели колокольчики погребальной мессы, и ксендз печально, надтреснуто произносил возгласы скорби и смирения…
Впрочем, и я тогда был верующим. Когда бабушка, ожидалось, должна была умереть от воспаления легких, я падал на колени и просил бога не допустить этого. Была весна, ранняя весна, близилась Пасха, уже поздно темнело, и еще при голубоватом дне зажигались не слишком яркие огни той эпохи.
Александр Михайлович Дерибас был уважаемым человеком в Одессе – знаток города, его истории, старожил и, кроме того, еще и директор Публичной библиотеки. Это был высокий старик, с белой длинной бородой и губами, складывавшимися при разговоре так, что видно было его происхождение: француз.
Однажды мы, молодые поэты, пригласили его выступить на вечере, который мы посвятили Бодлеру. Эдуард Багрицкий прочел со всей свойственной ему огненностью «Альбатроса», и потом кто-то провозгласил, что сейчас выступит Александр Михайлович Дерибас, который прочтет нам одно из стихотворений по-французски.
Мы бурно приветствовали вышедшего на кафедру старца. Он сложил губы по-французски и стал читать длинные строки александрийского стиха.
Иногда порт заполнялся серыми военными судами. Большой броненосец, и вокруг него суета мелкоты, вплоть до катеров… Тогда, в эти дни пребывания эскадры в Одессе, по городу, покоряя девушек, разгуливали военные матросы (обыкновенных матросов в Одессе и без того было много, а это были именно военные матросы, в погончиках на белых плечах голландок).
В ту эпоху и в армии и во флоте носили усы. Матросы особенно щеголяли этим украшением – своими маленькими, лакированно-блестящими, в большинстве случаев черными (поскольку флот набирался на Украине) усиками. Лица у них были смугло-румяные, груди красиво выпуклые, усики шелковистые… Иногда напрашивается обобщение, что именно матросы на первых порах были физической силой революции.
Я знал интеллигентного матроса, который, говоря со мной о коммунизме, привлек в качестве метафоры синюю птицу счастья из Метерлинка, – Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного собрания. Он, как известно, подошел вдруг к председательствовавшему Чернову и сказал:
– Пора вам разойтись. Караул хочет спать.
Караул был из матросов.
Он был очень красивый человек, Железняков, светлой масти, утонченный, я бы сказал – в полете. Он был убит на Дону в битве с Деникиным, убит в то время, когда, высунувшись из бойницы бронепоезда, стрелял из двух револьверов одновременно. Так он и повис на раме той амбразуры, головой вниз и вытянув руки по борту бронепоезда, руки с выпадающими из них револьверами. Это мне рассказывал очевидец.
Сперва я только смотрел на эти несколько окон, за которыми виднелся хлеб на столах, смотрел издали, с другой стороны улицы. Потом я решил пойти туда, в студенческую столовую. Три-четыре ступеньки, передняя, светлая от падающего из самой столовой света, полотенце, извилистое от частого употребления, висящее на гвозде…
Больше всего мне хотелось поесть этого нарезанного хлеба, торчащего из мисок. Я сел перед одной из мисок. В листке меню были карандашом написаны названия блюд и цены. Я решил, что съем перловый суп и котлеты.
На батарею приезжал ко мне Стадниченко. Ах, какой он был красивый парнишка! С темными сросшимися бровями, с широкой, не слишком выпуклой, но сильной грудью, с румяными губами, с горящим взглядом юноши…
Я любил его как товарища. В гимназические годы мы долгое время сидели с ним на одной парте. Сейчас, когда я служу на батарее, мы не слишком еще далеко отошли от тех лет. То и дело мы рассказываем друг другу о встречах с преподавателями и товарищами по классу.
– Видел Фудю! – хохочет Стадниченко. – Он в сандальях!
– В сандальях! – хохочу я. – Фудя в сандальях!
Фудя – это инспектор нашей гимназии, придурковатый чиновник, кривогубой речи которого умела подражать вся гимназия.
Я служу на батарее среди матросов. Великолепные матросы, революционно настроенные, разговаривающие о Ленине, – самые настоящие матросы Революции, которых описывал в своем «Хождении» Алексей Толстой… Я до сих пор помню имена некоторых, их лица, их голоса. Был матрос по фамилии Школьник, украинец, с тонкими, нетугими усами, в бушлате, в бескозырке с георгиевскими лентами, красавец, самолюбивый, как все матросы, иногда до слез самолюбивый и вместе с тем буйный. Помню Недвецкого, которого звали Юрий – Юрий Недвецкий, кажется мне, поляк, во всяком случае по-польски элегантный.
Я обедал у Даши, прислуги Стоговых. За восемь, как мне помнится, рублей она давала мне первое и второе – две тарелки вкусной, жирной, с чесноком и красным перцем еды.
Обедал я не у Даши на кухне, а рядом у Меллисарато, моих друзей, у них в столовой, когда они уже пообедали. Я не знаю, откуда и почему пошло это – почему вдруг, имея дом, родителей, я отъединился таким странным образом… Я мог ведь отдавать эти восемь рублей домой! И как, с другой стороны, мирились с тем Меллисарато, что я ем у них в столовой не их обед? Не с ними? Все в тумане.
Собственно, не в тумане. Наоборот, очень ярко существуют для меня эти три часа дня, когда я поднимаюсь по железной, довольно изящной лестнице и с некоторой ступеньки, поднявшись лбом до уровня окна, кричу. Нет, просто произношу:
– Даша!
– Иди, – отвечает женский голос.
Потом вдвигается в комнату тарелка с зеленым содержимым и еще тарелка с двумя кусками пушистого хлеба. Я уже у Меллисарато. Они пообедали только недавно, еще не убрали крошек. Еще, возможно, стоит нечто беленькое с горчицей – беленькое, испачканное в горчицу, что не имеет слишком аппетитного вида.
С каким аппетитом я ем! Как это все вкусно. Это тоже все греческое, южное. Мощный, как тело быка, лежит зеленый перец, испеченный целиком, лежит в борще, выставив бок, как бык, похищающий Европу.
– Вкусно? – спрашивает, появляясь, Даша.
– Да, да, очень, – отвечаю я, уже и в те годы страдая от учтивости.
Дело было лунной ночью, это я помню. В ту эпоху, между прочим, как-то заметней было, что ночь именно лунная. Вернее, в нашу эпоху по сравнению с той лунная ночь совершенно не отличается от обыкновенной. Вдруг неожиданно для себя обнаружишь где-то в красноватом от отблесков неона небе круг луны – не сияющий, плоский, белый и уж, во всяком случае, не колдовский. Вот, собственно, и весь эффект нынешней лунной ночи. Клянусь, уже много лет, как я не видел лунного света на земле с черной тенью, скажем, стены; много лет не видел силуэта кошки в лунном свете! Даже странно подумать, что эти эффекты были. Как будто мы даже были все вместе дети, которых мир не только пугал, но даже развлекал! А лунный свет на пороге сеней! А лунный свет в садике! А город – весь со своими крышами, трубами, деревьями, далекими балконами – в лунном свете! Куда это все исчезло! Мне скажут: поезжайте на дачу, поезжайте в маленький город. Нет, и там этого нет! И на дачах красные отблески, крик радио и маленькая, круглая, очень высокая луна. Теперь она только влияет на приливы и отливы. Просто хоть рассказывай молодым, как выглядел плющ на белой стене в лунном свете, как можно было увидеть лунный блеск на спине ползущего по дорожке майского жука, как в мире становилось при лунном свете тихо – та тишина, о которой Гоголь сказал, что так тихо, будто даже все спит с открытыми глазами.
Так вот лунной ночью шел я с молодым человеком по одесским улицам. Молодой человек был выше меня ростом, носатей, губастей и с зажигавшимися в глазах звездами. Он читал наизусть стихи, призывая меня слушать даже толчками в грудь.
Как известно, Багрицкий начинал в Одессе. Я был моложе его – не столько годами, сколько, скажем, тем, что его стихи уже много раз печатались, я напечатал одно-два… Однако он полюбил меня, и мы дружили. Теперь, кстати говоря, я с особенным чувством останавливаюсь на том обстоятельстве, что он меня полюбил – ведь вот увидел все же что-то такое в начинающем.
– У, Юрка молодец! – говорил он другим.
А что за молодец? Ничего во мне не было от молодца. Я писал под Игоря Северянина, манерно, глупо-изысканно… Но смотрите, все же увидел что-то!
Я ходил с Багрицким по городу. Он, конечно, главенствовал во всех случаях: и когда оценивалось то или иное стихотворение, и когда решалось, куда пойти, и когда стоял вопрос о примирении с кем-либо или о ссоре.
Однажды мы остановились перед подошедшей к нам группой поэтов, они тоже ходили по городу. Город был южный, и по нему приятно было ходить. Мы были молодые, была весна, и мы ходили по городу. Итак, к Багрицкому (я не в счет, именно – к Багрицкому) подошла почти вся группа одесских поэтов. Представьте себе пустоту площади с виднеющимися кое-где желтыми язычками тюльпанов, и в этой пустоте – вернее, на ее фоне, имея позади себя на некотором расстоянии развевающееся пламя тюльпанов, стоит человек пять молодых людей и девушек. Они стоят во весь рост, узкие, красивые, причем лица девушек до половины затенены шляпами, и в этой тени светятся глаза… Представьте себе это и еще подумайте о том, что эти молодые люди и девушки пишут великолепные стихи. Было чему запомниться на всю жизнь? Было чему!