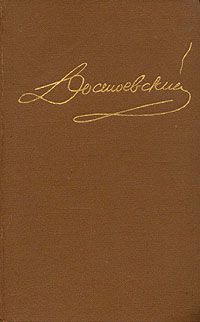Михаил Шолохов - Том 8. Рассказы, очерки, фельетоны, статьи, выступления
Останавливаем машину. Всадник выезжает на дорогу и, указывая на рожь, говорит:
— Вот она какая раскрасавица уродилась, а тут этот Гитлер, язви его в душу! Зря он лезет. Ох, зря!.. Вторые сутки не был дома, угостите закурить — из курева выбился — и расскажите, что слышно с фронта.
Мы рассказываем содержание последних сводок. Разглаживая тронутые сединой белесые усы, он говорит:
— Молодежь наша и то, гляди, как лихо сражается, а что будет, когда покличут на фронт нас — бывалых, какие три войны сломали? Рубить будем до самых узелков, какие им, сукиным сынам, повитухи завязывали! Я же говорю, что зря они лезут!
Казак спешивается, садится на корточки и закуривает, поворачиваясь на ветер спиной, не выпуская из рук повода.
— Как у вас в хуторе? Что поговаривают пожилые казаки насчет войны? — спрашиваем мы.
— Есть одна мысля: управиться с сенокосом и по-хорошему убрать хлеб. Но ежели понадобимся Красной Армии скорее — готовы хоть зараз. Бабы и без нас управятся. Вам же известно, что мы из них загодя и трактористов и комбайнеров понаделали. — Казак лукаво подмигивает, смеется: — Советская власть, она тоже не дремает, ей некогда дремать. Тут, конечно, в степи жить затишнее, но ить казаки сроду затишку не искали и ухоронов не хотели. А в этой войне пойдем охотой. Великая в народе злость против этого Гитлера. Что ему, тошно жить без войны? И куда он лезет?
Некоторое время наш собеседник молча курит, искоса посматривая на мирно пасущегося коня, потом раздумчиво говорит:
— Прослыхал я в воскресенье про войну, и все во мне повернулось. Ночью никак не могу уснуть, все думаю: в прошлом году черепашка нас одолевала, сейчас Гитлер приступает, все какое-то народу неудовольствие. И опять же думаю: что это есть за Гитлер, за такая вредная насекомая, что он на всех насыкается и всем покою не дает? А потом вспомнил за германскую войну, а мне довелось на ней до конца прослужить, вспомнил про то, как врагов рубил… Восьмерых вот этой рукой пришлось уложить, и всё в атаках. — Казак смущенно улыбается, вполголоса говорит: — Теперь об этом можно вслух сказать, раньше-то все стеснялся… Двух георгиев и три медали заслужил. Не зря же мне их вешали? То-то и оно! И вот лежу ночью, об прошлой войне вспоминаю, и пришло на ум: когда-то давно в газетке читал, что Гитлер будто тоже на войне германской был. И такая горькая досада меня за сердце взяла, что я ажник привстал на кровати и вслух говорю: «Что же он мне тогда из этих восьмерых под руку не попался?! Раз махнуть — и свернулся бы надвое!» А жена спросонок спрашивает: «Ты об ком это горюешь?» — «Об Гитлере, — говорю ей, — будь он трижды проклят! Спи, Настасья, не твоего это ума дело».
Казак тушит в пальцах окурок и, уже садясь в седло, роняет:
— Ну, да он, вражина, своего дождется! — И, помолчав, натягивая поводья, строго обращается ко мне: — Доведется тебе, Александрыч, быть в Москве, передай, что донские казаки всех возрастов к службе готовы. Ну, прощайте. Поспешаю на травокосный участок гражданкам-бабам подсоблять!
Через минуту всадник скрывается, и только легкие, плывущие по ветру комочки пыли, сорванные лошадиными копытами с суглинистого склона балки, отмечают его путь.
* * *Вечером на крыльце Моховского сельсовета собралась группа колхозников. Немолодой, со впалыми щеками, колхозник Кузнецов говорит спокойно, и его натруженные огромные руки спокойно лежат на коленях.
— …Раненый попал я к ним в плен. Чуть поправился — послали на работу. Запрятали нас по восемь человек в плуг. Пахали немецкую землю. Потом отправили на шахты. Норма — восемь тонн угля погрузить, а грузили от силы две. Не выполнишь — бьют. Становят лицом к стене и бьют в затылок так, чтобы лицом стукался об стену. Потом сажали в клетку из колючей проволоки. Клетка низкая, сидеть можно только на корточках. Два часа просидишь, а после этого тебя оттуда кочергой выгребают, сам не выползешь… — Кузнецов оглядывает слушателей тихими глазами, все так же спокойно продолжает: — Поглядите на меня: я сейчас и худой и хворый, а вешу семьдесят килограммов, а у них в плену за все два с половиной года сорок килограммов я не важил. Вот к чему они меня произвели!
Считанные секунды молчания, — и все тот же спокойный голос колхозника Кузнецова:
— Два моих сына сейчас сражаются с немецкими фашистами. Я тоже думаю, что пришла пора пойти поквитаться. Но только, извините, граждане, я их брать в плен не буду. Не могу.
Стоит глубокая, настороженная тишина. Кузнецов, не поднимая глаз, смотрит на свои коричневые вздрагивающие руки, сбавив голос, говорит:
— Я, конечно, извиняюсь, граждане. Но здоровье мое они всё до дна выпили… И, ежели придется воевать, солдатов ихних я, может быть, и буду брать в плен, а офицеров не могу. Не могу — и все! Самое страшное я перенес там от ихних господ офицеров. Так что тут уж извиняйте… — И встает, большой, худой, с неожиданно посветлевшими и помолодевшими в ненависти глазами.
* * *В колхозе хутора Ващаевского на второй день войны в поле вышли все от мала до велика. Вышли даже те, кто по старости давным-давно был освобожден от работы. На расчистке гумна неподалеку от хутора работали исключительно старики и старухи. Древний, позеленевший от старости дед счищал траву лопатой сидя, широко расставив трясущиеся ноги.
— Что же это ты, дедушка, работаешь сидя?
— Спину сгинать трудно, кормилец, а сидя мне способней.
Но когда одна из работавших там же старух сказала: «Шел бы домой, дед, без тебя тут управимся», — старик поднял на нее младенчески бесцветные глаза, строго ответил:
— У меня три внука на войне бьются, и я им должен хоть чем-нибудь пособлять. А ты молода меня учить. Доживешь до моих лет, тогда и учи. Так-то!
* * *Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к родине и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть поживет до окончательного разгрома врагов.
Великое горе будет тому, кто разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева!
1941
В казачьих колхозах*
На бескрайних донских полях уборка хлебов в разгаре. Грохочут гусеничные тракторы, над сцепами комбайнов синий дымок смешивается с белесой ржаной пылью, стрекочут лобогрейки, подминая крыльями высокую густую рожь. Казалось бы, мирная картина, но нет, на всем лежит строгая печать войны: по-иному, стремительно и напряженно, работают люди и машины, на станичных площадях у коновязей ржут пригнанные из табунов золотисто-рыжие донские кони, загорелые молодые всадники в выцветших кавалерийских фуражках едут на призывные пункты, и, разогнув спину, женщины-сноповязальщицы долго машут им руками, кричат: «Счастливо возвернуться, казаки! Бейте гадов досмерти! Буденному низкий поклон с Дону!»
По степным дорогам тянутся к пунктам «Заготзерна» подводы с хлебом нового урожая, и, величественно колыхаясь, движутся огромные арбы с зеленым, как лук, не видавшим дождей, превосходным сеном. Красной Армии все нужно. И все для армии делается. И все помыслы там, на фронте. И одно желание у всех в сердцах: поскорее переломить хребет проклятой фашистской гадюке!
Пожилой колхозник-казак разминает в ладонях пшеничный колос, улыбаясь, говорит:
— Не то что Англия и другие умные народы в союзе с нами, сама природа за нас и против Гитлера. Поглядите, какие в нонешнем году хлеба, прямо как в сказке: уродилось жито — в оглоблю, картошка — в колесо. Яровой пшенице, подсолнуху, просу нужен был дождь, и как раз перед уборкой, как по заказу, пролили дожди. Теперь на яровое и на прочую живность не нарадуешься! Все нам идет на подмогу!
На соседнем участке колхоза «Большевистский путь» работает комбайн комбайнера Зеленкова Петра. Первый же убранный гектар ржи дал 28 центнеров бункерного веса, и это при сравнительно малой влажности зерна и ничтожном проценте сорности. Местами урожай достигает 30–35 центнеров с гектара.
Комбайн Зеленкова разгружается на ходу, и приходится долго ждать остановки. Во время короткого отдыха Зеленков, заглянув в бункер, спускается по лестнице на щетинистую стерню, отходит в сторону покурить.
— Придется идти на фронт — смену приготовил? — спрашиваю его.
— Обязательно.
— Кто же?
— Жена.
— По-настоящему сможет заменить?
Смуглый от солнца и пыли Зеленков улыбается. Молодая женщина, работающая на комбайне штурвальным, свешивается через перильца, говорит:
— Я — жена Зеленкова. Временно работаю штурвальным, а в прошлом году работала комбайнером и заработала больше, чем муж.
Слова жены Зеленкову явно не по душе, и он овладевает разговором.
— На худой конец она, конечно, заменить может, — неохотно говорит он, — но у нас другая думка: вместе идти на фронт.