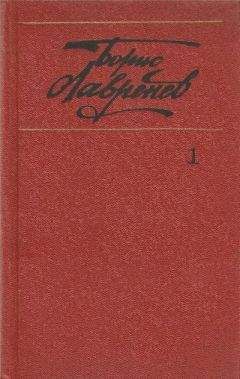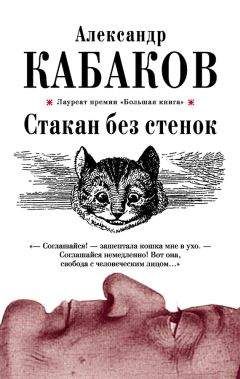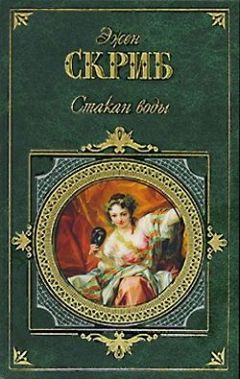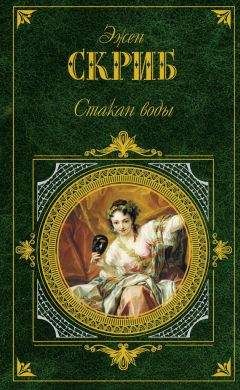Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
Кудрин тщетно напрягал память. Он знал многих художников и лично и по именам, но имя Шамурина ничего не говорило ему. И это было странно потому, что перед глазами Кудрина была работа, отмеченная печатью большого, углубленного мастерства. Кудрин подошел к гравюре вплотную и нагнулся. Под стеклом в правом углу он прочел четкую надпись «А. Шамурин» и дату «1926».
«Работа прошлого года», — подумал он и тут же почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он быстро обернулся.
В неслышно подошедшем к нему сзади человеке он узнал ректора Академии художеств, который несколько лет назад предлагал Кудрину работу в академии. Но как изменился за эти годы еще не старый человек. Он исхудал, кожа лица одрябла, под глазами набухли мешочки, голубые глаза, прежде излучавшие живой свет, поблекли, в рыжеватой бороде густо проступила седина, и весь он словно стал ниже ростом.
— Эрнест Эрнестович, что с вами? — обеспокоенно спросил Кудрин, сжимая вялую, влажную ладонь ректора. — Вы больны?
— Все-таки к искусству тянет? — сказал Эрнест Эрнестович, не отвечая на вопрос. — Иду и вижу, кто-то впился глазами в гравюру. Подхожу ближе, — ан это Федор Артемьев, Кудрин сын… Что, забрало за душу?.. Вещь сильная, ничего не скажешь. Неприятная, но крепко скроено… Пожалуй, качественно лучшая на всей выставке.
— Да, интересная, — подтвердил Кудрин, — но все же меня сейчас интересует ваше состояние, Эрнест Эрнестович. Ваш болезненный вид меня тоже забирает за душу. В чем дело?
— Болен… Смертельно болен! — вдруг резко и зло сказал Эрнест Эрнестович. — И необыкновенной болезнью. В медицинской науке еще не изучена. Называется «шарлатанофобия»!
— Ну, это еще не опасно, — засмеялся Кудрин.
— Тут не смеяться, а рыдать надо, — с той же злостью продолжал ректор. — Еще немного — и сердце у меня лопнет. Поломался я на войне с нигилистическими новаторами — футуристами, кубистами, экстремистами и прочими флибустьерами и джентльменами удачи… Гибнет, друг мой, академия, разваливается все, чем держалось наше великолепное русское искусство. Куролесят и экспериментируют шарлатаны, портят все, губят молодежь, отрицают рисунок, сами ничего не умеют, но кривляются, экспериментируют над живыми душами. А я один как перст и реальной помощи не вижу… Анатолий Васильевич не подмога[6]. И характером мягок, и сам любит иной раз форснуть левизной. А эти его, как тараканы коврижку, обсели… Профессора живописи, черт их возьми! Лепят на полотно квадратики, кружки, треугольнички — дело простое, а всерьез ночного горшка сами написать не могут… Вот и стал я не жилец на этом свете… Понимаю, что сейчас есть более срочные и решающие задачи, чем изобразительное искусство, не до него наверху. В свое время все станет на место, а пока что доконают меня «исты».
Эрнест Эрнестович безнадежно махнул рукой, и сквозь его иронически-шутливый тон Кудрин почувствовал острую горечь, разъедающую сердце старого, мудрого человека, надломленного острой идейной борьбой за честь и славные традиции русского искусства с горластой, шумливой и беспринципной ордой проповедников «новых форм», рядящихся в революционный наряд.
— Не нравится мне, Эрнест Эрнестович, ваше «нутро». Не опускайте рук. Покрасуются мыльные пузыри и лопнут. Есть же и отрадные факты… Скажем, АХРР[7].
Эрнест Эрнестович отмахнулся еще безнадежней.
— Эх, этот самый АХРР не лучше Пролеткульта. А кроме того, голубчик, и в АХРРе убежденных и идейных людей от силы десяток наберется. А остальные пенкосниматели. Почуяли, что в нынешней ситуации АХРР вроде елки с подарками, вот и танцуют вокруг. Мне они еще противней, чем мои ниспровергатели классики и новаторы. У тех мозги набекрень и хулиганский задор, а у этих уж больно голая коммерция без фигового листика.
— Вон как вас пессимизм разъел, — усмехнулся Кудрин. — Это все от сидячей жизни, Эрнест Эрнестович. На воздух почаще надо… Вы отсюда в каком направлении путь держите?
— В домашнем.
— А хотите прокатимся на острова на часок. День свежий, воздух млечный. И рассеяться вам полезно.
— Ну, что ж… пожалуй, поедем, — согласился Эрнест Эрнестович.
Взяв Эрнеста Эрнестовича под руку и направляясь к выходу, Кудрин еще раз оглянулся на гравюру.
— Кстати, Эрнест Эрнестович, вы знакомы с этим… с Шамуриным?
— Нет, — Эрнест Эрнестович слегка пожал плечами, — слыхал только о нем. Старик. Одинок. Ни с кем не знается. Говорят, будто у него в голове нелады. До двадцатого года работал много, выставлялся. После затих и вот спустя семь лет появился… А видно, талантлив, и сильно. Не мудрено, что он вам показался…
Они вышли на Морскую и сели в машину. Машина рванула с места, пересекла Невский, проскользнула в пасть арки Главного штаба и вырвалась на захватывающий простор площади Урицкого. Косые иглы закатного солнца рассекали холодноватый чистый хрусталь весеннего неба. На вершине розовой полированной свечи Александровской колонны грузно летел под тяжестью креста курносый ангел, и красная говяжья туша Зимнего дворца, загроможденная ремонтными лесами, закрывала горизонт. Прикрываясь портфелем от бокового, тревожно золотого блеска, Кудрин окинул взглядом площадь во всей ее изумительной четкости и гениальной простоте единственного в мире и неповторимого архитектурного ансамбля.
Эта красота, очевидно, захватила и Эрнеста Эрнестовича. На лбу у него разгладились две вертикальные морщины, все лицо помягчело, и в глазах появился огонек.
— Какой город! Какой город! — протяжно сказал он и всей грудью вдохнул бодрящий предвечерний холодок.
Кудрин впервые попал в Ленинград после демобилизации. Детство и юность его прошли на Кавказе, затем он попал в Москву, из Москвы в Сибирь, оттуда в эмиграцию. Австрия, Швейцария, Франция. Бродячая жизнь изгоя, бесконечная скачка по странам и городам в поисках пристанища и заработка. Были города прекрасные и отвратительные, из которых хотелось бежать.
Дореволюционного императорского Петербурга с его размеренной скукой и сгущенной атмосферой, в которой люди жили, как на кратере вулкана, поминутно ожидая взрыва, города, в котором рядом с лихорадкой становящегося на ноги российского капитала уживался сухой бюрократический ритуал и показной военный блеск распадающейся империи, — Кудрин не знал.
Он увидел новый Петроград, получивший вскоре иное почетное имя, в то время, когда смолкли пушки и над развенчанной столицей воцарилась глухая, пугающая тишина. В просторах опустелых проспектов, между брусчаткой и торцами летом пробивалась непокорная, ярко-зеленая трава. Дома вставали над этой пустыней, как надгробные памятники, полуразрушенные, но еще величавые. Широкая стальная Нева вливалась под мосты, как под прокатные станы, и медленно и бесшумно стекала к западу. Кудрина неприятно поразило запустение центра города, и он больше полюбил окраины, районы старых застав, где над прошлым уже закипала новая жизнь. Она давала знать о себе теплым дыханием фабричных труб, тянущимся к взморью дымом, ревом гудков, гулкой беготней вагонеток, лязгом и визгом терзаемого металла, пыхтением пара, жужжанием электромоторов, железными руками кранов, красными отсветами расплавленного чугуна, льющегося в изложницы.
Но и в замершем центре была своя красота, замкнутая и оскорбленная. В белые ночи гиперборейский город, в колоннадах и портиках своих дворцов, был похож на безжизненную, но прекрасную гравюру, на которую хотелось смотреть без конца, с сердцем, стиснутым болью и жалостью.
Разумом и верой большевика Кудрин верил, что там, на окраинах, происходит подлинное возрождение города, что там начинает все сильнее биться индустриальное сердце страны, рождается ее могучее и прекрасное будущее. Сердцем художника он любил и замороженную Элладу ленинградских дворцов и площадей, геометрическую точность этого города стройных и строгих линий, где все подчинялось прямолинейному устремлению в мировые просторы, лежащие за желто-серыми волнами Балтики.
И на восхищенную фразу Эрнеста Эрнестовича Кудрин сочувственно улыбнулся. Машина зашуршала по мосту Равенства. Направо и налево лежала искрящаяся, муаровая, андреевская лента Невы, разрезающая город. Кудрин приподнялся на сиденье и сказал Эрнесту Эрнестовичу:
— Вот уже шесть лет, как я стал ленинградцем, но всякий раз, как вижу Неву, — волнуюсь. К этой реке нельзя привыкнуть, как привыкаешь к обычному пейзажу. В ней и в Волге есть что-то от русской души, широты, размаха, величавости и простоты. Она зовет и будоражит.
Эрнест Эрнестович молча кивнул.
Они проехали на Елагин остров, вышли из машины и пешком прошли к Стрелке. В парке было тихо и пусто. Прели не убранные с осени кучи опавшей листвы. За сухим тростником, разросшимся на мелководье Стрелки, лежала опаловая гладь лахтинского взморья, и на западе в сизом дыму не то виднелся, не то скорее угадывался Кронштадт.