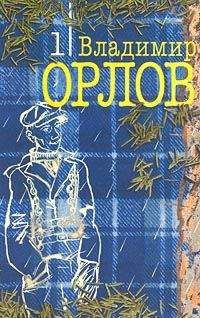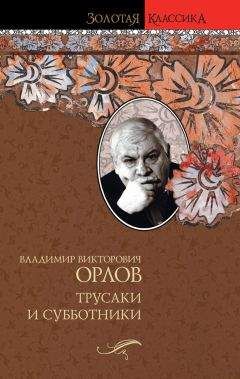Владимир Орлов - Происшествие в Никольском
Показывали все четверо по-разному, было видно, что они не сговаривались и не сочиняли одну какую-то версию, выгодную им. Потом Виктор Сергеевич узнал, что парни вообще старались не попадаться друг другу на глаза. Понял он, что и в ту ночь между ними не было сговора, а все вышло, «само собой».
Тяжелее всех, как показалось Виктору Сергеевичу, переживали случившееся в доме Турчковых. Или, может быть, Турчковы проявляли свои переживания более открыто. Во всяком случае, именно в этом доме Виктор Сергеевич вынес много слез и причитаний. Мать Турчкова Зинаида Сергеевна, машинистка районной конторы Сельстроя, маленькая, тощая женщина, выглядевшая лет на десять старше своих сорока пяти, вытирая платочком слезы, то и дело протягивала расстроенному, предпочитавшему молчать следователю какие-то похвальные грамоты Лешеньки с красным орнаментом по бокам, любительские и оплаченные по пеннику фотографии сына, все больше ранние, трогательные: вот Лешенька голенький, с апельсином в руках, вот он, закутанный и оттого круглый, как пингвин, вернулся из садика, вот он на горшке, вот он на лошадке с деревянной шашкой и в буденовке, вот он с длинными, отпущенными, как у девочки, до плеч белыми кудряшками и даже бантиком в кудряшках. «Видите, видите? – говорила Зинаида Сергеевна. – Какой он был, тихий, послушный, с такой милой мордашкой… И вот теперь… Какой позор! Какой позор!.. Это ужасно! Это мы виноваты, это я виновата, надо было дать мальчику доучиться в школе, а мы ему разрешили на завод…» Виктор Сергеевич ей говорил что-то, а она опять протягивала ему те же фотографией те же грамоты, и он из вежливости опять рассматривал их. «А вы не знаете, вы не скажете, сколько получит Лешенька, и какого адвоката, вам приглашать, и где найти в Москве этого адвоката? Вы извините, что я именно вас об этом спрашиваю…» – «Да нет, почему же, пожалуйста, – говорил Виктор Сергеевич, стараясь не смотреть в заплаканные, жаждущие надежды глаза Турчковой, и его успокоительные слова казались ему фальшивыми. – Только я ведь следователь. Я ведь не из тех, кто судит, кто оправдывает или наказывает. Мое дело – установить истину. – Слово „истина“ показалось сейчас Виктору Сергеевичу лишним и надутым, и он оговорился: – Установить все, как было… И я пока не знаю…» – «Нет, вы все знаете, все знаете, – печально качала головой Зинаида Сергеевна, – вы просто не хотите меня огорчать…»
Отец Турчкова, сорокасемилетний бухгалтер районного элеватора, лежал в соседней комнате то под простыней, то под тремя одеялами. У него сделалась крапивница, она не мучила его много лет и вот теперь вернулась, и, как все считали, на нервной почве. Виктору Сергеевичу Турчков-отец отвечал односложно, с раздражением не потому, что он считал его врагом сына, а, наоборот, потому, что следователь занимался, по его разумению, бессмысленными расспросами, когда и так все было ясно. А с сыном Турчков, и вовсе не желал разговаривать.
В музыкальной школе ахали и вздыхали, все не хотели поверить в случившееся. «Этого с Турчковым не могло быть! Такой воспитанный, и нежный мальчик, и способный, очень душевно играл Шопена. Конечно, семья их не богатая, матери приходилось набирать работы на дом, но все равно Алексею стоило продолжить музыкальное образование, вы уж, пожалуйста, будьте к нему снисходительнее…»
Сам Лешенька Турчков во время бесед со следователем был таким жалким и потерянным, что и самого Виктора Сергеевича беседы с ним удручали. Он знал, что Турчков, опомнившись, хотел покончить с собой и только слезы матери и собственная нерешительность удержали его в жизни. Он говорил со следователем без всякого желания, скорее и не как с человеком живее, а как с неким необходимым, но неодушевленным предметом. Виктор Сергеевич чувствовал, что Турчков после долгих и острых приступов самобичевания, видимо, пришел к какому-то решению и ни с кем не желал им делиться. Только оно и было для него теперь важным, а все остальное, все внешнее – и следствие, и вопросы Виктора Сергеевича, и отношение к нему окружающих, и суд с приговором, – все это казалось ему несущественным и пустым. Узнать, что за мысли легли на душу Турчкова и что он собирается предпринять, не мог не только следователь, но и Зинаида Сергеевна, с которой прежде сын был откровенен. Виктор Сергеевич понял только, что никакого наказания Турчков не страшится, – наоборот, он желал бы, чтобы наказание ему было суровым.
Колокольников выглядел подавленным и растерянным, но, в отличие от Турчкова, он с охотой слушал следователя и даже пытался узнать у Виктора Сергеевича, на сколько лет придется ему отправиться в колонию и какой будет режим. «Чего не знаю, того не знаю», – говорил Виктор Сергеевич. «Все-таки, может быть, я вернусь молодым, – прикидывал Колокольников, – и начну жизнь заново. Я вину искуплю, я обещаю, это ведь все по глупости, да еще из-за водки. И с вермутом намешали…»
Когда он это говорил, когда он каялся, и каялся, как казалось Виктору Сергеевичу, искренне, он выглядел, несмотря на свою мужскую стать, напроказившим ребенком и искал у Виктора Сергеевича, у взрослого, поддержки. Виктор Сергеевич знал, что никогда раньше за ним никаких безобразий не водилось, даже дрался Колокольников редко именно из-за того, что был силен и боялся, как бы невзначай не пришибить слабого. Он был добр, Виктор Сергеевич это видел, и нерешителен. Добр-то добр, а начал все он. Но, называя в мыслях все своими именами, Виктор Сергеевич все же чувствовал к Колокольникову не только жалость, но и некую симпатию, объяснить причины которой он сейчас и не пытался.
Родственников и знакомых было у Колокольниковых в Никольском и на окрестных станциях видимо-невидимо и каждый раз, когда Виктор Сергеевич приходил в дом Колокольникова, в нем толклись озабоченные женщины и говорливые старушки, печалились о Васеньке, но при появлении следователя их быстро выдувало. Отец Колокольникова, Николай Терентьевич, машинист электровоза со станции Перерва, человек тихий и молчаливый, их терпел, раздражению своему давая выход в осторожных, чуть ли не шепотом высказанных просьбах не тарахтеть и не болтать глупости. В ответ на него глядели с сожалением, а кое-кто из родственников жены крутил еще при этом и пальцем возле виска. Вспоминали, как, узнав о случившемся, Николай Терентьевич бросился на сына, схватив валявшееся у порога полено, как заорал незнакомым в доме голосом: «Сучье отродье! Убью! Убью!» Но рядом с сыном был он легок и мал, и тот, хотя и растерянный и виноватый, без труда утишил отца и отобрал у него полено.
В разговорах со следователем Николай Терентьевич очень нервничал, иногда вставал, как бы невзначай рыжей кухонной тряпкой тер ладони и пальцы. Спохватившись, он дважды извинялся перед Виктором Сергеевичем, объяснял, что это у него дурная привычка, двадцать лет он служил машинистом паровоза, значок получил, а там после вахты горячей водой с мылом и с пемзой отбеливаешь руки, отбеливаешь – и все равно остаются черные метины, вот по нескольку раз их и моешь, теперь он на электровозе, в сухой и чистой кабине, будто у диспетчера в прежние времена, а привычку уже не прогонишь, особенно когда нервы…
– Ну, скажите, как же так, – говорил Николай Терентьевич, – я рабочий человек, ударник, партийный – и что же получается: Васька – золотая молодежь и плесень? Как же так и за что? Наша жизнь, значит, ему показалась скучной, захотел перейти в красивую?.. Таких надо наказывать по всей строгости. Позор ведь мне, как рабочему человеку… Но почему он-то? Ведь мы его и не баловали, шоколадными конфетами не кормили, и я не очень чтобы пьющий… А Васька и к труду охочий, и в техникуме он, и спортсмен – и вот на тебе! Как же так, а, Виктор Сергеевич?..
И хотя вопрос этот был скорее риторический, поскольку Николай Терентьевич спрашивал следователя, не глядя на него, и не ждал ответа, – видно, сам объяснил себе происшествие, а может быть, ему все разъяснила жена, и их мнение поколебать уже никто не мог, – Виктор Сергеевич вынужден был все же отвечать из вежливости. Но, впрочем, что он мог ответить?
– А теперь, будьте добры, подпишите протокол, – говорил в конце концов Виктор Сергеевич.
Удивляло Виктора Сергеевича молчание супруги старшего Колокольникова – Елизаветы Николаевны. Не то чтобы она вообще разыгрывала из себя немую, а так, помалкивала со значением, лишь изредка вступала в разговор с пустяковыми репликами и то как бы невпопад. И невнимательным взглядом можно было сейчас же определить, кто в доме Колокольниковых главный и кто у кого под каблуком. Причем Елизавета Николаевна даже и за стол не садилась, но и не уходила никуда, а стояла у стены или у шкафа, на некотором удалении от мужчин, руками подперев высокую грудь, с усмешкой в прищуренных глазах, дородная, уверенная в своей красоте и силе женщина. От этой яблони и рос Василий Колокольников румяным яблоком. На кого она похожа, думал Виктор Сергеевич, удивительно похожа? На Зыкину? Как будто бы и на Зыкину… Нет, скорее на Мордюкову, точно, на Мордюкову, решил Виктор Сергеевич. Снисходительная улыбка Елизаветы Николаевны и величавая ее поза отчего-то смущали его. И калач он был тертый, и мужчина не из последних, а вот – на тебе! – терялся в доме Колокольниковых, был в напряжении, словно боялся, как бы усмешка кустодиевской женщины, налитой соком, не обернулась словами: «И откуда ты такой выискался, с шеей-то короткой? Следователь называется. Да что ты делать-то можешь, следователь? И мужик-то ты, видать, плюгавый, этак тьфу тебя – и растереть… И вот ходишь да на моего Васеньку собираешь материал. Собирай, собирай! Или, может, ты денег от нас ожидаешь?..»