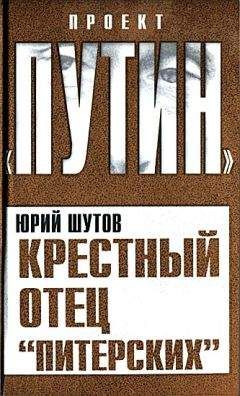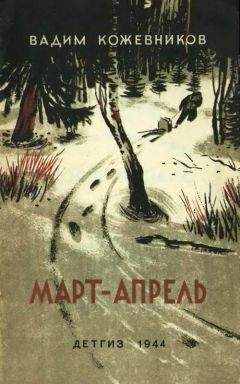Иван Шутов - Апрель
Александру Игнатьевичу представились большие печальные глаза старого вагранщика.
— И знаете, кто был виноват во всем этом? Все тот же Магнус, тот самый мерзавец, что прибрал к рукам мастерскую моего друга. Если бы вы видели этого Магнуса, товарищ майор, вы никогда бы не подумали, что это такой гнус! Чистенький, вежливый, корчил аристократа, носил монокль. Он подражал директору завода, на котором служил: тот тоже украшал свою бульдожью морду моноклем. Он, я говорю о Магнусе, товарищ майор, всегда терся среди рабочих. Но в его демократизм не верили, не без оснований полагая, что Магнус — гестаповский шпик.
«Похоже на Гольда», — подумал Александр Игнатьевич, внимательно слушая дядюшку Вилли.
— Он работал инженером на паровозостроительном заводе в Флоридсдорфе. И однажды рабочие сборочного цеха, после того как пятеро их товарищей по доносу Магнуса были арестованы, устроили ему «приятную встречу». В цехе внезапно погас свет, а когда нашли причину аварии и дали ток, Магнус лежал на полу изувеченный. Но мерзавцы выживают. Правда, после этой «обработки» пальцы правой руки у него слегка скрючились и он стал писать левой. Но за горе, что он причинил старому Паулю, ему этого мало. У Пауля был сын Фредди — хороший, смелый парень. После аншлюсса наци ходили толпами по улицам. Ходили и пели гимн Хорста Весселя. Они орали, как дикие звери. И нужно было, чтобы Фредди сидел за одним столом с Магнусом в кафе! Фредди был с девушкой. Он недовольно поморщился, услышав слова: «Выше знамя! Крепче сомкните ряды!»… «Тебе не нравится эта песня, паренек?» — спросил его Магнус. «Да, — ответил Фредди, — не нравится. А вам что до этого?» — «Сейчас увидишь». Он вышел на улицу, этот мерзавец, и сказал наци, что в кафе сидит коммунист. Наци ввалились туда и убили Фредди дубинками. Они били его по голове. Он умер от кровоизлияния в мозг. И старик Пауль осиротел. А этот Магнус где-то ходит. Правда, он опасается заглядывать сюда. Но он где-то ходит…
«И, кажется, возле нашего строительства, — подумал Александр Игнатьевич. Рассказ дядюшки Вилли пробудил в нем глухое беспокойство. — Сегодня же нужно навести справки о Гольде».
На прощанье Александр Игнатьевич предложил дядюшке Вилли взять на себя организацию питания для рабочих мастерской. Старик согласился.
Подозрения Александра Игнатьевича не подтвердились. По наведенным справкам, инженер Бальдур Гольд был членом социалистической партии с 1930 года, после аншлюсса эмигрировал во Францию и возвратился в Вену после войны. Имущество его конфисковали нацисты; он числился в «черном списке» как кандидат в концлагерь.
Но эта справка все же не вызвала у Александра Игнатьевича доверия к Гольду. «Хорош социалист! — думал он. — Спекулирует чем только может. Нужно держать его подальше от нашего строительства».
Малер возвратился домой поздно. В комнате слышалось ровное дыхание Климентины за ширмой и четкое тиканье будильника. Да где-то в углу скреблась мышь.
Климентина пробормотала во сне что-то невнятное и умолкла.
«Устала за день», — подумал Малер, стараясь тихо шагать по комнате.
Климентина, вдовая сестра Малера, переселилась к брату после войны. Теперь, как говаривал старый вагранщик, они «хлебали беду из одной миски».
Малер включил свет. Дубовые стулья с вырезанными на спинках сердцами, ничем не покрытый, тяжелый и темный стол, буфет с изображающими веселье виноделов резными дверцами, изорванные ширмы, кровать с провисшей сеткой, рассохшийся шкаф. Старый хлам! Да и его не было, когда Малер возвратился из тюрьмы. Сестра привезла всю эту мебель.
Скворец в клетке над окном встрепенулся, радостно чирикнул.
— Здорово, крошка, — тихо проговорил Малер. — Ну, как у тебя? Воды вдосталь, корма тоже? Заботится Климентина? А мне, извини, сейчас возиться с тобой некогда. Рано утром я снова пойду к вагранке. Нужно выпустить тебя на волю, Карл. Прожил ты в нашем углу всю осень и зиму, а сейчас, приятель, наступил хороший для птичьей мелюзги месяц — апрель. Да, да, тебе надо доставить эту радость — волю весной. У меня тоже радость… Так и быть, ночуй здесь еще одну ночку, а утром лети куда хочешь — в Пратер, Венский лес, на Каленберг[5]. Тебе везде будет хорошо. Апрель…
— Ты с кем разговариваешь, Пауль? — спросила Климентина.
— А! И ты проснулась? Это я утешаю нашего крошку Карла. Завтра выпущу его на волю. Ах, воля, воля! Как ей рады и птицы и люди…
За ширмой послышалось скрипение кровати.
— Пауль… Слушай! — Голос Климентины прозвучал необычно радостно. — Хорошая весть. В наш дом возвратился Раймунд Фогельзанд. Он тоже вышел на волю этой весной. Я его видела, он сказал, что обязательно сегодня хочет тебя видеть.
— О! — радостно произнес Малер. — Раймунд здесь?
Климентина вышла из-за ширмы, кутаясь в халат, поправляя волосы. Это была маленькая, сухая, седоволосая женщина.
Из буфета Климентина достала хлеб и чашки, поставила на стол и, взяв кофейник, удалилась на кухню.
— Раймунд здесь, — повторил Малер, вертя в руках почерневшую трубку.
Старый вагранщик был рад возвращению друга. Оба они подверглись преследованиям нацистов. Малеру вспомнились страшные ночи в этом доме. Здесь жили рабочие. А Раймунд был одним из тех, кто не захотел оставаться в стороне от борьбы. Его арестовали первым в доме… Грохот солдатских сапог по лестнице, стук в дверь. Голоса гестаповцев, наглые их вопросы, спокойные ответы Раймунда. Звон матрацных пружин, грохот передвигаемой мебели; выстукивание стен. И Раймунда уводят. Солдатские шаги замирают внизу. Тишина. Но все повторяется в следующую ночь, в другой квартире. Дом не спал, тревожно прислушивался, а во дворе стояла черная крытая машина с затемненными фарами. Каждую ночь из дома уводили людей на муки и смерть.
— Он жив, он жив, — радостно повторял старик. — Раймунд жив…
Услышав тихий стук, он опрометью бросился к двери.
Раймунд Фогельзанд стоял перед Малером в синей опрятной куртке, в широких светлых брюках. Он радостно улыбался. Годы лишений и муки иссушили его; лицо усеяно густыми морщинами, их много: на лбу, у глаз, у рта; глубокий шрам над бровью придает лицу выражение суровой сдержанности, какое бывает у обстрелянных солдат. Но все тот же задорный, теперь седоватый, ежик на голове, все те же веселые искорки в глазах.
Друзья обнялись.
— Как я рад тебя видеть, Раймунд.
— И я тебя тоже, Пауль.
Малер засуетился, побежал на кухню, стал торопить Климентину с кофе. Скворец в клетке, точно предчувствуя волю, звонко и радостно щебетал. Раймунд уселся за столом, стал рассказывать о своем скорбном пути.
Четыре года его бросали из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь. Освободили американцы. Девять месяцев пролежал в госпитале, пока смог стать на ноги. Несколько человек таких же, как и Раймунд, полумертвецов на том основании, что они долго не заявляли о своем желании возвратиться на родину, объявили «дисплейсд персонз» — перемещенными лицами. Об этом Раймунд не знал до выхода из госпиталя. Ему предложили выехать в Америку. Но он наотрез отказался.
— Я бежал из американского лагеря и, как видишь, благополучно добрался домой, — закончил свой рассказ Фогельзанд.
— Очень хорошо, Раймунд, — сказал Малер. — Очень хорошо.
— А теперь поговорим о деле. — Раймунд отодвинул пустую чашку. — Я знаю, что ты завтра приступаешь к работе в литейной мастерской. Знаю, что эта мастерская должна изготовить. Мне это дело по душе, и я предлагаю свои руки.
— Ты? — удивился Малер. — Краснодеревщик?
— Да!
— Мы многим литейщикам должны были отказать, Раймунд. У нас рабочих ровно столько, чтобы люди могли нормально, без толчеи, трудиться в небольшой мастерской.
— И все же я вам пригожусь.
— Я рад буду, Раймунд, но…
— Выслушай меня, Пауль. Вы будете производить литье для советских строителей. А как нужно работать поэтому?
— Очень хорошо.
— Правильно, но не совсем точно.
— Что же точнее?
— По-стахановски!
— Верно! Я слышал об этом. Так работают в Советском Союзе. Но как именно, я, должен признаться тебе, знаю очень плохо.
— Я вам объясню.
— Откуда у тебя такие познания?
— В Ганноверском лагере, где я находился во время войны, с нами были русские. Один из них тайком от стражи вел с нами беседы. Стахановский труд — это прежде всего труд рабочего, который стал хозяином на производстве.
— О! — удовлетворенно протянул Малер. — Мне это нравится.
— И мне тоже, — сказал Раймунд. — Такой труд способен творить чудеса.
— Верно!
— Вот видишь, — улыбнулся Раймунд, — как быстро мы находим общий язык, хотя и принадлежим к разным партиям.
— Моя партия, — нахмурился Малер, — партия мозолистых рук. А те двадцать пять лет, что я провел в социал-демократии…