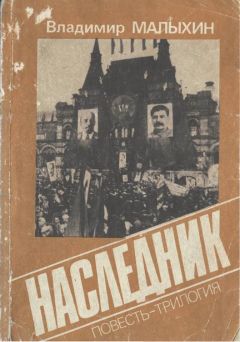Владимир Попов - Разорванный круг
«Не удивительно, что к Брянцеву тянутся люди, — анализирует потом Карыгин. — Он у кормила, в его руках вся власть. А какая власть у заместителя директора по кадрам? Какие он решает вопросы? Принять или не принять на работу?
И Карыгин начинает разыгрывать роль вершителя судеб. Подолгу выдерживает поступающих на работу в приемной, подолгу беседует с ними, исповедует по всем правилам. Обо всем расспросит — пьет или не пьет, как живет с женой, сколько человек в семье. И у посетителя создается впечатление, что Карыгин принимает его в виде исключения. Из сочувствия, из личного расположения. Он уходит, испытывая чувство благодарности. Хороший начальник попался, хоть и строгий с виду.
Особенно тщательному опросу подвергает Карыгин инженерно-технических работников. Для них, вопреки всяким правилам, особые вопросы подготовил.
Сидит человек, напрягает память, вспоминая, какое отчество у дедушки, которого никогда не видел, и в какой деревне родилась мать жены.
Крутит головой Карыгин, слушая нечеткие ответы, горестно вздыхает, долго думает, устремив на посетителя свой тяжелый взгляд. Потом бросит так, невзначай, загадочно:
— Вы понимаете, у нас не просто шинный завод…
Посетитель уже начинает чувствовать, как почва уходит из-под его ног, как рушится надежда работать на этом заводе.
И только когда Карыгин видит, что посетитель пал духом и готов уйти ни с чем, снисходит. Берет отложенные в сторону документы и нарочито размеренно говорит слова, которые дважды перевернут душу, пока человек дослушает их до конца:
— Что могу сделать? Наше дело — как у саперов: ошибиться можем только один раз. Объективные данные у вас неважные, по всем формальным признакам вы нам не подходите. Но, черт побери, в вас есть что-то внушающее доверие.
Никто о такой проработке не знал и узнать не мог — не станет же человек рассказывать, что принят на завод из милости, по доверию, лично ему оказанному.
Не раз пощипывали Карыгина на собраниях за барство, за секретаршу, которая держала людей по часу-другому в приемной. И он решил показать свои зубы. Воспользовался тем, что рабочий Удальцов, недавно всенародно на него накричавший, сделал прогул. За такой проступок с завода не увольняли. Но Карыгин умудрился подсунуть под горячую руку Лубану, предшественнику Брянцева, приказ об увольнении Удальцова. Пока дело пересматривали, обиженный рабочий ушел с завода. Карыгин добился своего: люди почувствовали, что с ним шутки плохи.
А другой раз, оставшись на неделю замещать Лубана, Карыгин роздал на премии половину директорского фонда — умею, мол, карать, умею и миловать. Это снова произвело впечатление.
Не просто разобраться в поступках такого человека. Попробуй, пойми, о чем он думал, когда давал квартиру Приданцеву, выполняя просьбу Таисии Устиновны. Хотел угодить Брянцеву или насолить ему, зная, какой резонанс это будет иметь? Ему не удалось восстановить коллектив завода против директора, предоставив квартиру Приданцеву, зато он настроил против Брянцева городское начальство.
Узнав, что семья Заварыкина перевезена на квартиру директора, — а весть об этом распространилась в быстротой молнии не только по заводу, но и по всему городу, — Карыгин предпринял контрмеры. Он ходил по кабинетам райкома, горкома, горисполкома, согласовывал какие-то свои малозначащие вопросы, а перед уходом говорил будто невзначай:
— Лихо товарищ Брянцев вставил фитиль всем городским руководителям, лучше и придумать невозможно: «Вот я какой сознательный! Ради благополучия рабочего человека в одну комнату переехал». И делал устрашающий прогноз: — Чего доброго, и до вас очередь дойдет.
А когда завязывался оживленный обмен мнениями, доказывал, что поступок Брянцева — логическое завершение его постоянной линии заигрывания с рабочими, игры в демократию, линии, которая началась еще со времен создания института рабочих-исследователей. Уж не чересчур ли большую роль отводит он общественности? Как бы не дошло дело до того, что завод перестанет быть управляемым.
Если Карыгину возражали, он вытаскивал из своей колоды еще один козырь:
— Такой факт уже был, когда коллектив завода вышел из повиновения. Отказались же люди выполнить требование Москвы перейти на гостовскую технологию.
В этой фразе все продумано, каждое слово отточено: «старая» заменено «гостовской»; «отказ от перехода на старую технологию» не звучит, а «отказ от гостовской» — звучит; «потребовал Хлебников» — маловато; «институт» — сильнее, а «отказались выполнить требование Москвы» — производит внушительное впечатление, настораживает.
Было над чем подумать после разговора с человеком, который прошел большую жизнь, который общается с заводскими работниками.
Особенно серьезно задумался над всем этим секретарь райкома Тулупов. Он молод, на партийной работе недавно, а Карыгин — старый зубр. Как к его сигналу не прислушаться? «Неуправляемый завод, — раздумывал Тулупов. — Ничего себе пилюлька может получиться. Как только этот случай безнаказанно прошел? И с квартирой на самом деле запрещенный прием: вот полюбуйтесь, какой я! А остальные, значит, холодные чиновники? Нет, надо вмешаться, пока не поздно, прибрать директора к рукам. Только как его приберешь, когда там слабый секретарь парткома? Подмял его директор. Что-то очень уж у них тихо, ни разу не поскандалили. Когда там перевыборы? Ага, скоро. Но кого? Кого рекомендовать секретарем?»
Вывод напрашивался сам собой: конечно же, Карыгина. Мало того, что у него опыт большой, у него еще хватка крепкая. Такой сможет обуздать Брянцева. Только он наверняка откажется. Для чего лишние хлопоты? Сидит на спокойной работе, оклад большой, дотягивает до пенсии.
И Тулупов решил так: даст Карыгин согласие — не пускать его на партийную работу, — значит, рвется к ней. А откажется — принять все меры, чтобы стал секретарем парткома.
Карыгин отказался. Он великолепно понимал: проявлять энтузиазм в подобной ситуации не рекомендуется.
А вечером, сидя дома и уставившись в одну точку, он вожделенно произносил:
— Мне бы только помогли приподняться. А там я уж сам встану во весь рост.
Глава тринадцатая
Одно и то же каждый день: из Ташкента в Джизак, из Джизака в Ташкент. У Апушкина есть теперь сменщик, ездят они поочередно. Но сменщик ездит один, а с Апушкиным всегда Саша Кристич. Дорогу они делят пополам. Туда, по утренней прохладе, — Апушкин, обратно, по жаре, — Кристич. Нудно и однообразно. Никаких дорожных развлечений. И Апушкин не без удовольствия вспоминает их путь сюда, в Среднюю Азию. Он, собственно, привык к однообразию дороги — испытания, как правило, бывают челночные. Но одно дело выезжать из Москвы и возвращаться в Москву, а значит, домой, другое — когда ты надолго оторван от семьи и знаешь, что не скоро ее увидишь.
Шины оказались износостойкими. Кристич даже не смотрит на них. Раз в пятидневку сделает замер, запишет в журнал — и все заботы. Только камешки, застрявшие между шашками, выковыривает, чтобы не грызли резину.
Постепенно его уверенность передается Апушкину, и он не знает, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, хорошо, что заводским ребятам удалось сделать добротные шины, а с другой… Гарантийный километраж шины — тридцать две тысячи. Эти пройдут больше. Так все лето, гляди, и прокатаешься по адову пеклу. Повезло еще, что с ним Саша.
Апушкин не очень любит, когда Кристич за рулем, — у того руки и язык одновременно не работают. Что-нибудь одно: либо ведет машину, либо разговаривает. Последнее время о товарищах по работе рассказывает, о Сибирске, а больше всего — о себе.
В войну сиротой остался, в детдом попал. Малышом совсем. Не много помнит он о том времени. Но особенно запомнил, как стащил из красного уголка гармошку. Очень уж ему нравилось, когда на ней играли. По малолетству думал, что это так же просто, как играть на патефоне. Там только ручку крутить надо, а здесь — растягивать мехи да нажимать кнопки. Забрался как-то под кровать и тихонько пиликает. Вдруг видит — рядом с кроватью сапоги появились. Сначала решил, что просто не заметил их раньше. Но сапоги постояли, постояли и оказались в другом месте. Потом изогнулись, чья-то рука под кровать протянулась, схватила его за ухо у выволокла из укрытия. Поднял голову — директор детдома. Вырываться не стал — уха пожалел. Был в детдоме такой, без уха, говорили — за воровство где-то на базаре оторвали. Привел директор его к дежурному. «Вот полюбуйтесь, как вы инструмент охраняете». Но гармонь не отобрал. «Поиграешь вдоволь, — говорит, — верни, захочешь снова — попроси, дадут. Чего доброго, музыкантом станешь». Только сложное это дело оказалось — научиться играть. Две ноты подберет, а третья уже неизвестно куда заводит, обратно не выберешься. Эта гармошка и повернула вскоре его сиротскую судьбу.