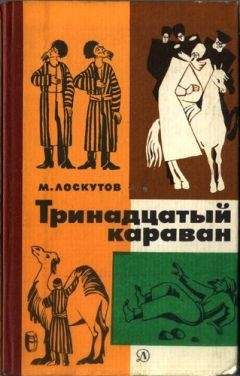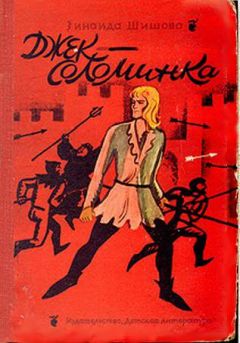Кирилл Шишов - Взрыв
Но, работая над пейзажами, он писал страдание умирающего дерева, или одинокую тоску бесплодного жестокого камня, или трепетную силу проросшей на пепелище травы, а здесь — здесь он не мог ухватить состояния этих людей, для которого нашлись бы потом и краски, и цвета, и тени…
* * *На десятый день он забросил свой альбом под кровать, отбил на почте телеграмму с просьбой найти замену и, зло покуривая, отправился бродить по городишку, которого, по сути, не видел да и не хотел видеть. За заводским поселком из типовых пятиэтажек открылся старый город — деревянный, усадебный, залезающий в гору с лихостью грузинских сакль. Деревьев, естественно, там почти не было: предки об охране природы не думали, но вверху, на макушке соседней выпуклости он приметил жалкий лесок, куда и понесли его непроизвольно ноги. Он шел и думал, что даже этот обветшалый конец города, с почерневшими деревянными крышами, пьяно-разваленными воротами и бродячими псами для него понятнее хаоса и визга железа, в котором он пробыл. Он мог бы, побившись с пару дней, написать и эту старуху на фоне резного наличника, вырастившую какого-нибудь пропойцу-сына и жадюгу-дочь, а ныне не желающую нянчиться с внуками и прикармливающую из блюдечка блудливую кошку. Он мог бы написать и печально читающего на завалинке газету старика, шевелящего губами над передовицей и думающего о том, приедет ли сын на покос или опять мучиться одному в семьдесят лет на жарище. Он понимал этих людей, потому что все русское искусство незаметно вложило в него свой опыт. Но у него не было приемов для изображения людей, ежедневно прокаливаемых горячим дыханием стали и ловящих по вечерам чебачишек в заводском пруду. Он был бессилен перед скуластым парнем, залезающим в трехсотградусную печь для ремонта подины. Он грустно думал, что если круговорот живого — от робкого одуванчика до цветущей яблони — ему подвластен и уловим, то поединок потного, раскаленного печью мужчины с огненной стальной полосой вызывает у него лишь штампованные приемы, не согретые болью души или сочувствием.
Он шел по крутой каменистой тропе, привычно учащая дыхание, и уже различал впереди красные звездочки среди негустых березок, серебристые оградки. Да, это было кладбище — старый и вечно обновляемый погост, ради которого сохранялись от порубки деревья и пели беззаботные пичуги, сияло солнце и гудел внизу напряженным зыком завод. Тишина смирения и безысходности обступила его, и он медленно проходил среди могил, вглядываясь в поблекшие от дождей фотографии, удивляясь весу стальных пирамид, словно вдавленных в желтоватую иссохшую землю. Видно, делали их на том же заводике по типовым размерам из листового проката, что катали скоростные прокатные станы. Напряженные застывшие лица, молодые, пожилые, с той же замкнутостью смотрели на него, не соединяя цепь времен, не повествуя ни о чем, кроме двух цифр, соединенных коротенькой чертой, чертой, за которой вся жизнь — неизвестная, загадочная…
Вдруг за поворотом он увидел, что возле очередной пирамидки склонился с лейкой над цветами мужчина, фигура которого показалась странно знакомой. Бегичев остановился, но сухая ветка хрустнула под подошвой — и человек оглянулся. Это был директор завода — в том же неопределенного цвета пиджаке с засаленным от носки галстуком и испачканными землей руками.
— Это вы? — не удивляясь, сказал директор, словно они встретились в проходной завода или на перекрестке. — Будьте любезны, помогите поднять оградку…
Бегичев, пробормотав невразумительное приветствие, отчего у него перехватило горло, бестолково ухватился за железные прутья и невпопад принялся помогать директору — Алексею Никитовичу, — как, к счастью, пришло на ум растерянному художнику. Он долго не решался взглянуть в сторону памятника, роясь в неподатливой просевшей почве, пытаясь совком отрыть мешающие камни. Алексей Никитович рыл землю саперной лопаткой, вытащенной из брезентовой сумки, тяжело всхрапывая при взмахе и аккуратно складывая грунт возле дорожки. Лейка, горшки для рассады цветов и початая бутылка водки стояли рядом…
Когда они закончили и сварная решетка была плотно посажена в проушины поднятых столбиков, Бегичев украдкой рассмотрел фотографию молодого человека с бледным сухощавым лицом. Это был сын директора — двадцативосьмилетний Николай Алексеевич Примаков, похороненный два года назад. Горькая надпись так потрясла Бегичева, что он на секунду потерял сознание и бессильно облокотился на решетку, чуть не упав. Директор молча закурил, и запах табака привел в себя художника, судорожно унявшего дрожь пальцев и нашедшего силы достать помятую пачку сигарет. Они сели на траву. Директор так же молча пододвинул ему бутылку и подал спички…
— Сын, — после долгой паузы хриплым голосом сказал Примаков, когда, откашлявшись после водки, Бегичев затянулся дымом. — Опередил отца… До сих пор не могу поверить…
Бегичев ковырял носком ботинка мясистый куст подорожника, выросший возле оградки, и не мог произнести ни слова. Собственный отец — семидесятилетний крестьянин с корявыми руками пахаря и ложкаря — стоял перед ним, устало поникнув взглядом.
Его портрет, сделанный еще в годы учебы в академии, остался единственной удачной работой, заслужившей золотую медаль и скупое рукопожатие учителя. Всю боль военного голодного времени, страх детского одиночества в долгие зимние ночи тридцатых годов, когда отец месяцами уезжал на хутора, молчаливое поклонение деревни перед человеком, носившим на теле семь шрамов от вил и пуль кулаков, — все это он вложил в портрет. И сам он — Бегичев — рубил из владимирского сидерита надгробие с морщинистым профилем отца, пережившего четыре войны. «Мужик волен помирать, когда дети за плуг возьмутся», — вспомнилась ему отцовская присказка, которую тот твердил в горячечном бреду, распластанный на постели после очередного налета из-за угла. «Не волен я теперя помирать, мне жить надо…» И эту бешеную волю поджарого жилистого тела рисовал он тогда так, чтобы каждый шрам чувствовался под обтянутой холщовой рубахой, а глаза — глаза не решился нарисовать: тень от спутанных волос падала старику на лоб, и глубоко посаженные зрачки светились во впадинах. Скулы с обветренной кожей и сжатыми желваками позволяли домыслить образ, названный им «Батя»…
— На заводе погиб, — словно с собой разговаривая, сказал Примаков. — Не должно быть такого, чтобы отцы детей переживали… Несправедливо…
Бегичев смотрел, как директор с усилием цедил оставшуюся водку из горлышка и обтянутый небритый кадык со свистом вздрагивал, словно от сдержанного рыданья, но слез на щеках не было.
— Как же случилось? — шепотом спросил он.
— Заготовку из клети выбило — одним ударом… — отвернувшись, Примаков поставил бутылку и тыльной стороной ладони вытер губы. — И не могло быть — а раз в год и такое случается, металл — он всегда металл…
Они встали. Бегичев помог директору собрать инструмент и, непроизвольно не отпуская сумки, которую держал Примаков, вышел вместе с ним с кладбища. День клонился к закату, и освещенный низким, из-под тучи, солнцем город внизу отливал багровыми отсветами, словно из раскаленной печи выпускали сталь. Лицо директора, ставшее снова замкнутым и отчужденным, казалось Бегичеву вычеканенным из меди с резкими переходами от света к тени, но он чувствовал, как поднималось в нем неясное желание, вернувшись домой, взяться за карандаш. Словно какие-то барьеры, мешавшие ему прикоснуться к тайне жизни, озаренной пурпуровым отблеском горячего металла, упали, и снова в суровой наготе вставал перед ним человек; чей это будет портрет: директора, потерявшего без войны сына, или молодого инженера, перерубленного клинком горячей стали на заре жизни, или рядового мартеновца, слизывающего соль с губ возле заслонки, за которой бушует пламя, — он сам еще не знал. Знал только, что напишет этот портрет, ибо сердце его было опалено болью и прикосновением к огню…
Эти старые русские клены…
Осенний день был вкусным и хрустким, как яблоко, что сочно откусывал лейтенант Ворожцов, тщательно сплевывая зерна в левую ладонь. Правой он прижимал к уху телефонную трубку, нагретую за три часа дежурства сведениями о дорожных происшествиях, переругиваниями диспетчеров и хрипом помех, возникавшими каждый раз, когда милицейский «газик» подкидывало на ухабах. «Десятый слушает, нахожусь на тридцатом километре…» — ровно повторял Ворожцов, краем глаза наблюдая, как проносятся мимо груженные сизым картофелем шалые самосвалы, как жмутся к обочине щеголеватые эмалевые «жигулевочки». В микрофоне щелкало, и голос диспетчера сипло отвечал: «Следуйте по маршруту, следуйте по маршруту».
Ворожцов доел яблоко, оставившее во рту приятный аромат свежести и кислоты, обтер ладонь о кожу сиденья и начал было прикидывать, успеет ли к обеду оказаться возле подходящей сельской столовой. В эту минуту простуженный голос отрывисто произнес по селектору: «Десятый, срочно на Шершневскую развилку, десятый — срочно на развилку, прием…» «Что там стряслось?» — насторожился лейтенант и знаком приказал водителю разворачиваться. «Наезд самосвала на личную машину. Возможно, есть жертвы. На всякий случай высылаю «скорую»…» Диспетчер отключился, и Ворожцов перегнулся назад, чтобы взять снятую от долгой тяжести фуражку. «Газик» с воем сирены несся по средней линии шоссе, а Ворожцов уже напрягался всем телом, предчувствуя запах крови, горелой искусственной кожи и лопающейся краски…