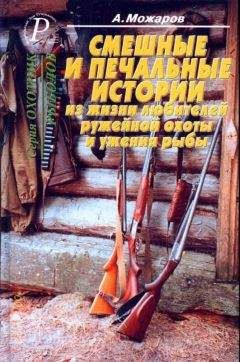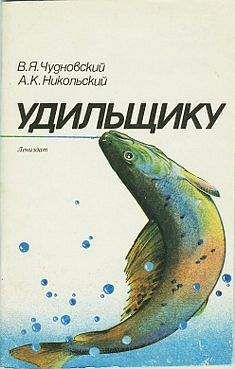Александр Можаров - Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы
Теряясь от такой наглости, Кузьмич, только что рассказывавший бабе Груне, как чуть не ухватил Петьку за штаны, когда тот перелезал с моторчиком от точила через забор, не находился ответить Петьке в глаза, что это он сам вор и есть. Какими-то намеками, иносказаниями да хитрыми прищурами он давал Петьке понять, что догадывается, чьих рук это дело, и что в другой раз уж не оплошает, переломает вору все ноги. Петька соглашался с каждым словом кивком головы. Да, мол, переломай, Кузьмич, ему проклятому все ноги, какие есть.
В Кадницах живут речники. На всю навигацию они пропадают из дома и гоняют вверх-вниз по Волге баржи и пароходы. Вот к их хозяйству и неравнодушен Петька более всего. Дождавшись мая, он выбирает темную ненастную ночь и забирается в сараи и дворы с мешком за плечами. Особенно не везет нашему соседу-бобылю. Его дом стоит прямо напротив нашего, и перед тем, как уйти на лето в плаванье, он просит брата и меня присмотреть за хозяйством.
— Гляньте при случае, не лазил ли кто, — говорит всегда с оптимизмом дежурную фразу Анатолий Федотович, взъерошивая сильной пятерней курчавые белокурые волосы. И он, и мы понимаем, что на самом деле наша «помощь» сведется лишь к тому, что, осматривая периодически его дом, мы первые обнаружим взлом. Немолодой уже, но постоянно бодрый и добродушный Федотыч всякий раз по возвращении домой впадает в уныние, не находя то насадок к электропиле, то коробки с надфилями, то набора плашек.
Как и у нас, в первом, кирпичном этаже его дома — мастерская, но сравниться по числу и изощренности инструментов с его мастерской не сможет ни одна в округе. Инструменты — его слабость, его гордость, его хлеб. Десятки тщательно отточенных долот и тесел рядами покрывают стену над верстаком, красуются, как на витрине, топоры, и отвертки всех возможных размеров торчат каждая в своем отверстии, высверленном в деревяшке. И традиционная электропила, и рубанок, и электросварка, и даже маленький токарный станок — все есть у Федотыча. Осенью он закупает доски и, дав им вылежаться год, делает следующей зимой мебель на заказ. Мебель эта не простая, с секретом. Или спрятанный где-нибудь светильник вспыхивает, едва вы открываете дверцу шкафчика, или заводится музыкальная шкатулка, или сами по себе выдвигаются один за другим ящички. Пропажа любого инструмента для Федотыча — горе, и он выдумывает разные замки, запоры и прочие ухищрения, чтобы спасти от Петьки свои сокровища. Но это не помогает.
Напившись, Петька хвастает перед приятелями-забулдыгами, что он ворует умеючи. Много не берет, чтобы хозяину лень было связываться с милицией, а того, что берет, хватает и на выпивку и на закуску. Приятели разносят эти разговоры по деревне, и кадницкие грозятся в сердцах: доворуется, мол, дай срок, все ноги переломаем. Иногда Петька появляется на улице с синяком или ссадиной на лице, и тогда все шепчутся: это, мол, только так, урок для начала. Но всегда оказывается, что это вовсе не урок, а результат обычной пьяной драки с приятелями-забулдыгами.
Кому-то может показаться, что все подозрения насчет связи Петьки с нечистью кадницкие строят только на том факте, что мать его была ведьмой. Однако, это не так. Люди давно заметили, что с Гурия, когда зима, разъезжая по честной Руси на пегой кобыле, гоните земли нечистых, воровская активность Петьки заметно ослабевает, а несколько дней спустя, на Прокла, он и вовсе напивается вумат, переживая, как видно, за повсеместно проклинаемую нежить. Зато с апреля, как начинают очухиваться один за другим от зимней спячки лешие да кикиморы, Петька оживает и вновь принимается за воровской промысел. А Галка — жена Сашки Березнева из нижних Кадниц — сама видела, как Петька в ночь на Агафью и Никиту топил в Кудьме в подарок водяному, как видно, сворованную где-то кобылу игреневой масти. Но и это еще не все доказательства. Как многие в Кадницах, Петька был охотником и, как почти все, рыболовом. Внешне его ружье, патроны и удочки ничем особенным не отличались от других, но конечно были заговорены. Поэтому и не было в деревне более удачливого добытчика. Разумеется, дело не обходилось без водяного, да и лешие на зверя наверняка выводили, а Петька всем этим хвастал перед соседями, перед дружками-забулдыгами да над другими охотниками насмехался. Это тоже не увеличивало у кадницких любви к нему, а наоборот вызывало подагру и воспаление аппендицита.
Не знаю, как сказать о моем отношении к Петьке. Есть у нас, у русских какая-то иррациональная жалость к ворам. Не возьмусь сейчас объяснить ее загадочного происхождения и определиться в вопросе, следует ли Степана Разина почитать или судить, но знаю совершенно точно, что заканчивается она, эта жалость, у человека в тот момент, когда он узнает, что его обокрали. Так случилось и со мной.
Отчего Петька до сих пор не покушался на наше хозяйство, мы не задумывались. Видимо, знал он о нас что-то, чего мы не знали сами, что-то, что пугало его, заставляло обходить наш дом стороной. И это что-то волновало и даже бесило Петьку, толкало на какие-то нелепые состязания с нами, в которых он один и был участником, что бесило его, видимо, еще больше и толкнуло в конце концов на рискованный и наглый поступок.
Зима в тот год оказалась долгой и богатой на зверье. Мы охотились, возили выжлецов на выставку, в Нижний, познакомились там с борзятниками и решили организовать у нас по осени псовую охоту на красного зверя. Особенно много ездил я и, вернувшись как-то из очередной поездки на гусиные бои в Павлово-на-Оке, не обнаружил дома Беса. Брата не было тоже, и какое-то неприятное волнение, которое принято называть дурным предчувствием, возникло внизу груди и нудно засосало в солнечном сплетении. Я никак не мог взять себя в руки из-за ощущения, что с собакой случилось неладное, и бродил бесцельно по комнатам или смотрел в окна. Так хотелось верить, что из-за поворота сейчас появится брат с Бесом на поводке, но какой-то неслышимый голос во мне со всей определенностью говорил, что этого не случится. Наконец я увидел брата. Он шел один, без собаки, и отчаянье сдавило мою грудь тяжким объятьем.
— Что случилось? Где Бес? — я старался говорить спокойно, когда брат вошел из сеней в комнату.
— Петька повез в город делать прививку от бешенства, — несколько растерянно ответил он, почувствовав мое состояние. — Зашел, говорит, повезу Чару уколоть — знакомый едет на машине туда и обратно. Давай, мол, и Беса уколю.
Лис в эту зиму расплодилось много, их косило бешенство, и сделать прививку собаке, несомненно, следовало. Молодая петькина лайка Чара с задатками хорошей собаки очень нравилась Бесу. Тут тоже не должно было бы быть никаких неприятностей. Но что-то было не то.
— А Тумана с Бояром он не предлагал отвезти? — продолжал я допрос.
— Так мы же их прививали перед выставкой.
— Все равно что-то не так.
— Что?
— Не знаю. Что это он вдруг о Бесе вспомнил?
— Так было, видимо, место в машине, и заодно с Чарой, чтобы…
— Только Паша Кошелев может так. Заодно. Или Серега Комбаров. А чтобы Петька кому-то что-то сделал заодно, это я слышу впервые, — я уже не мог сдержать волнения, и мой голос становился злым.
— Мне показалось, что он не хитрил, — произнес брат, словно оправдываясь. — Да и что может случиться? Какая у него на Беса корысть?
— Не знаю, только чувствую, что приедет он без собаки и скажет, что Бес сбежал. А сам что-то с ним сделает.
— Да что? Продать его — не продашь, он уже взрослый, да одноглазый. На шапку таких мелких да с рыбьим мехом не берут. А на что он еще может сгодиться? — рассуждал брат, разрезая мою душу нечаянным цинизмом на дольки и не замечая этого.
— Не знаю, — несдержанно зло ответил я и, разом сломавшись, обреченно добавил: — Пойду я куда-нибудь. На лыжах, что ли… Ничего не могу ни делать, ни говорить.
Немного морозный и абсолютно равнодушный к тому, что творилось у меня на душе, полдень скользил солнечными бликами по насту и с беспричинной веселостью пьяного мотал лыжню по снежной целине то вправо, то влево, то под гору, то вдоль оврага. Следуя, как трамвай по рельсам, кем-то установленному пути, я вынужден был сосредоточить свое внимание на лыжне, и ощущение беды стало отступать, слабеть с каждым новым спуском, с каждым новым поворотом. Природа переставала казаться безразличной ко мне. Во вспыхивающих блестках серебрящегося снега, в робком и вместе с тем добром посвисте неторопливых снегирей все больше я находил сочувствия и желания успокоить мою мятущуюся душу. Скоро уж я стал сомневаться в правильности моих предчувствий.
— С чего это я взял, что непременно беда? Просто наваждение какое-то, — думал я, скатываясь с невысокой горки и поправляя ремень сползающего ружья. — Может, все и обойдется. Да, наверное обойдется. И брат прав: кому нужен Бес кроме меня.
За очередным поворотом, где кончался овраг, и приветливые березки нежили свое белое тело в игривых солнечных лучах, лыжня вдруг уткнулась в широкую черную полосу шоссе. Не было на нем ни машин, ни людей. Холодное и непоколебимое оно рвало надвое снежную равнину и резало, словно стальная лопата беззащитного червяка, мою лыжню. Страшные воспоминания прошедшего лета, мгновенно сменяя одно другое, стали возникать и пропадать в памяти. В них не было какой-то определенной последовательности, они не задерживались в голове дольше мгновения и повторялись по несколько раз. То я видел пару бабочек-белянок, которые, кружась в любовном полете, вдруг натыкались на сизое облако порохового дыма и устремлялись прочь. То ощущал кровь, стекающую с мордочки собаки по моим рукам к локтю. То передо мной возникало лицо водителя в черных очках, казавшееся равнодушным, будто у робота. То краем глаза замечал словно изнутри взорвавшийся правый задний поворотник на его машине. То снова кружились бабочки. То будто бы со стороны я видел себя: я кричал каким-то почти беззвучным, сипло-свистящим криком, стоя на коленях над собакой и не желая верить в то, что она убита.