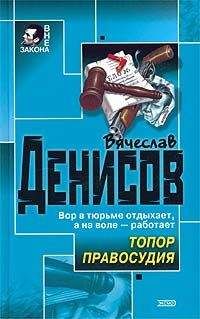Юрий Карабчиевский - Жизнь Александра Зильбера
Она встает с дивана, подходит к динамику и до предела увеличивает громкость. Теперь ей приходится перекрикивать динамик.
— Такого с нами никогда еще не было!
— Да, — киваю я, — никогда.
— Мы все должны быть родными друг другу!
— Да, — киваю я, — да, родными.
— Теперь все вместе должны заменить его одного! Ты согласен со мной?!
Я был согласен…
6
Нет, это все-таки удивительно, в каких разобщенных, в каких изолированных слоях мы живем!
Вот они, сороковые— пятидесятые. «Сороковые, роковые, та-ра-та-та, та-ра-та-та…» Но где же ежедневный политический гнет, где постоянный страх потерять последнее, где умный скептик, в тайных беседах объясняющий неразумному юнцу страшную несправедливость происходящего? Где мечты о свободе, о смерти тирана?..
Вот уж чего не помню, того не помню. И как не было у меня ни одного знакомого с телефоном и ванной, так и не знал я никого с политической статьей, а тем более скептика, объясняющего несправедливость. Врачи и вернувшийся Яков — вот первый конфликт подобного рода, первый огонек в моем сознании. Но и он ничего вокруг не зажег, а так, горел сам по себе.
Тот слой, в котором я находился, видимо, не подлежал. Здесь тоже сажали — но за взятку, за халатность, за хищение социалистической собственности. Можно подумать, что я жил в притоне. Нет, среди мирных и по-своему честных людей.
— Мечты о свободе, о смерти тирана… Прямо стихи какие-то получаются. Переводные. С венгерского, например, по подстрочнику…
Глава третья
1
А все-таки, если взять себя крепко за грудки и допросить с пристрастием, то и обнаружится все, что должно было обнаружиться. И вечный страх — хотя бы перед школой, хотя бы перед лагерем, хотя бы перед пионерским. И, если угодно, мечты о свободе — ну хоть тайное чтение «Золотого теленка», и стихи Есенина в списках, и песни Лещенко на рентгеновских пленках. И мудрый скептик тоже обнаружится, но для этого мало взять себя за грудки, надо еще хорошенько набить себе морду. Потому что чем только не забивал я голову в лучшие свои годы, в то время как тут же, рядом со мной, жил этот замечательный человек, и, стоило только задать вопрос, он сразу включался, как магнитофон, и всегда был к моим услугам, и надо было только сидеть и слушать, и глотать, и впитывать, и запоминать… Но все это казалось мне старческим бредом, лишенным смысла, и я старался не задавать никаких вопросов.
Это был… Да, конечно, это был мой дед, отец погибшего моего отца, и потому я не упоминал о нем раньше, что все же он не был магнитофоном, а всего лишь живым человеком — пока был живым. Все его пленки умерли вместе с ним, я же по глупости и самомнению так мало переписал в свою память, что вряд ли имеет смысл воспроизводить.
Но вправду ли, так ли уж был он мудр? Господи, какая разница! Это был единственный мудрец в моей жизни, другого мне не положено, и, значит, никто не может занять его место, никто, кроме него самого. Ни в жизни, ни в этой книге.
И сейчас я попробую — чувствую, что обязан это сделать — собрать по крохам то немногое, что смогло удержаться в моей памяти вопреки брезгливому, сопротивлявшемуся моему сознанию.
2
Дед приехал с Украины, из-под Винницы, и поселился в нашем особняке, в маленькой, восьмиметровой комнатушке, бывшей моей детской. Он приехал, а мы уехали, как раз комнатка для него и освободилась.
Впрочем, конечно же, в Москву он прибыл не прямо с Украины, а из Средней Азии, куда привезли его в сорок первом больного, почти без памяти; где-то в Житомире навсегда осталась его жена, моя бабушка, поехала к родственникам в гости, да так и застряла до прихода немцев. Как она погибла, никто не знал, но деду мерещилось, что ее закопали живьем, и, когда он бредил — а он часто бредил, при любой болезни: простудился ли, желудок ли прихватило, — он всегда плакал и кричал: «Руки! Руки ее шевелятся! Что же вы смотрите? Вот, вот они! Вот где надо копать, разве вы не видите?!» Это он обычно кричал по-русски или на том языке, который считал русским, обращаясь, по-видимому, к каким-то окружающим посторонним людям. Затем он замолкал на несколько минут, после чего снова начинал всхлипывать, но теперь уже разговор шел по-еврейски. Теперь дед разговаривал с Богом, жалобно и просто до фамильярности, причем, судя по всему, он слышал Бога не хуже, чем мы его самого. «Нейн, — повторял он по нескольку раз. — Нейн, Готэню!..» Затем следовала пауза, в течение которой Бог, по-видимому, уговаривал деда. «Нейн, Готэню, — ворчал дед, внимательно и терпеливо выслушав Бога, — нейн, Готэню, их выл ныт лыбн. Фар вус, Готэню? Фар вус тист мир азелхе цурес!» Но Бог, должно быть, продолжал настаивать и находил достаточно убедительные доводы, потому что дед начинал соглашаться и плакать. «ё, Готеню, Ди быст герехт. Ди быст герехт, о! Ди быст герехт! Их бын шилдык, майн Готэню, о! Их бьш шилдык!..»
Через несколько лет мы узнали от случайных знакомых, что бабушку действительно закопали живьем вместе с большой группой стариков и старух. Все старательно скрывали это от деда — глупо, он ведь и так все знал…
Не знаю, был ли дед праведником. Вряд ли, конечно. Может ли праведник, к примеру, ругаться или пить? Дед же пил и ругался. Пил он не так, чтобы очень пил, но в тумбочке у него постоянно имелась начатая четвертинка, и он принимал ложку-другую утром, днем и вечером перед каждой едой. Руки у него дрожали от слабости, было ему тогда под восемьдесят, он ставил на стол граненый стакан, накрывал его сверху столовой ложкой и в эту ложку, опиравшуюся о края стакана, осторожно лил из бутылки. Лишние капли не пропадали, падали в стакан. Он выпивал водку, не закусывая и не морщась, как лекарство, затем наливал вторую, выпивал, затем в эту же ложку наливал желудочный сок, им и запивал.
— Что ты смеешься? — говорил он мне строго. — Это очень полезно для аппетита. Можешь попробовать, тебе тоже полезно, ты такой худой…
Он наливал мне четверть стакана, добавив к тому, что вылилось из ложки. Стакан был грязным и мутным. Я вообще-то был не против, но не из этого бы стакана…
— Что ты смотришь? — кричал он на меня. — Что ты смотришь, так твою мать! Я его мыл, можешь не сомневаться! Ты думаешь, если дедушка старый, так он обязательно грязный, как свинья! Тебе противно пить после дедушки — так я его мыл, этот стакан, мыл его теплой водой, чтоб ты знал! Можешь пить, это полезно для аппетита. Только маме говорить не надо, ты же знаешь, женщины не читают газет и они не разбираются в медицине.
— А как же врачи? — спрашивал я, закусывая рыхлым соленым огурцом, который тоже у него — откуда бы? — всегда находился.
— Врачи? — переспрашивал он. — Не говори глупостей. Что знают твои врачи? Кого они вылечили, твои врачи? Особенно эти девки? Я вызываю на дом врача, и приходит девка с прической и маникюром и не знает, что со мной делать. Потому что бюллетень ее мне не нужен, а аспирин я и сам могу себе прописать. И нитроглицерин у меня уже лежит на столе. Что делать этой бедной девке с таким стариком, как я? Если бы я был молодой парубок, она бы могла состроить мне глазки и что-нибудь еще, и вышло бы, что она хоть не зря приходила. А что ей делать со мной, когда она ничего не знает и хочет поскорее уйти домой? Мне ее жалко, я говорю: «Иди, иди, ничего мне не надо, вот я уже здоров…»
Врачи! У нас в городе тоже был врач, некто Красовский, видный мужчина. У него был такой выезд, что весь город завидовал — такие были у него лошади. И он лечил весь город от всех болезней, и если он ставил диагноз, так можно было не сомневаться и не звать другого врача, и если он выписывал тебе лекарство, то нужно было его принимать и не думать ни про какое другое. Такой это был врач. Всех он знал в лицо и помнил, кто чем болел и чем у него болели мама, и папа, и дедушка, и бабушка. Потому что это тоже было важно для лечения… Да-да, не смейся, много ты понимаешь!..
Так пришла твоя Советская власть, и сначала у него отобрали лошадей, на них стал ездить комиссар с наганом, тоже еврей, но бандит первой гильдии, а Красовский уже ходил пешком. Он был старый человек, не такой, как я сейчас, но тоже в годах, и сколько он мог пройти за один день? И сколько больных умерло, пока он шел через весь город, это я уже не считаю, потому что это капля в море, если сравнивать с тем, сколько людей тогда убивали, как мух…
— Но ведь это же контрреволюционеров, — вставлял я раздраженно. — Это же всяких бандитов и врагов революции!
— Ну да, ну да, — соглашался он. — Бандитов, ты прав. Вы же всегда правы. И кто вам не лижет задницу, тот бандит и контрреволюционер…
— Дед, перестань!
— Да-да, я уже перестал. Когда вам говорят то, что есть, и вам нечего ответить старому человеку, хоть вы и грамотные и читаете всякие книги, но, когда вам нечего ответить, вы говорите «перестань». Ты так говоришь, и хорошо, что у тебя нет нагана. А у Советской власти есть наган, и сначала она говорит «перестань», а потом стреляет тебе в лоб. И, представь, это тоже еще хорошо. Потому что она может сначала выстрелить, а потом уже сказать «перестань»…