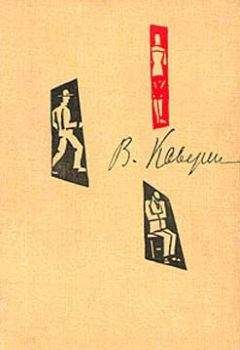Вениамин Каверин - Скандалист, или вечера на Васильевском острове
Низко склонившись над столом, дымя папироской, Драгоманов дочитал тетрадь до конца.
Леман сообщал в дальнейшем, что мать его, приживши второго сына, на двадцатом году жизни овдовела и, обижаема будучи тетками, вторично поступила в замужество.
Что отчим утопил было его в пруду, неподалеку от деревни Котляковки, но не успел в сем происшествии, будучи остановлен мимо проезжими поселянами.
Что, отдалясь напоминовениями сколько можно, видит он как бы во сне, что, будучи отправлен на учение в Минск, жил он под начальством какой-то женщины, именем Варвара, «в совершенной праздности», шатаясь по улицам и, «по крайнему изобилию всех плодов, пресыщаясь ими». Что вредные наклонности, происшедшие от сего, заставили его в течение времени погрузиться в распутство. Что попущение своевольствовать со стороны начальства его, женщины Варвары, долженствовало бы предать его всем порокам своеволия. Но что белорусское, хоть и плохое, воспитание не только удержало его от всесовершенной гибели, но содеяло в нем правила нравственности, доброты и благочиния.
Драгоманов тихо положил тетрадь обратно.
Мемуары были чужие.
Бедный студент исторического отделения Иван Леман! Он списывал их откуда-то. Из Радищева? Из Карамзина? Для его некрологов, торжественных и благопристойных, не хватало торжественных мемуаров. Его привлекала звучность. Слова звучали, как медь, почти как молитва.
«Попущение своевольствовать… Всесовершенная гибель».
4Прожигающие жизнь первокурсники уже не лупили каблуками в пол, лампы в коридоре были уже погашены, когда Драгоманов вышел из леманской комнаты. Он возвращался к себе — не с тем, разумеется, чтобы снова попытаться уснуть. Но он ловил ясный утренний час для работы.
Снежный нетронутый свет падал от Невы в его окно, вещи стояли маленькие, как дети. С посветлевшими глазами он уселся за стол, разложил рукопись — он писал большую статью о языке прозы с лингвистической точки зрения.
Но что-то мешало ему работать, руки были не те, карандаш был не отточен.
Досадливо качнув головой, он отправился обратно к Леману.
— Леман, материальный писец, материалист, — сказал он и, отрывисто рассмеявшись, стянул с него одеяло. — Студент исторического отделения Иван Леман! Извиняюсь, что разбудил.
Леман негромко взвизгнул, поджимая под себя голые, покрытые рыжим пушком ноги. Он испуганно моргал, отмахивался.
— Леман, важное известие, прими во внимание, — сказал снова Драгоманов и сел к нему на кровать. — Один из твоих некрологов можно, кажется, отправить в газету. Не белорус, — добавил он, начиная щекотать Леману пятки, — но зато профессор. Ординарный профессор, не какой-нибудь. И член-корреспондент Академии наук… Ага! Скончался! Погиб, не оставив за собой ни следа, ни дуновения. Фамилия Ложкин, по имени Степан Степанович. Можешь написать о нем в своих мемуарах: «Он был, и его не стало», или «скончал житие свое», или «жизни более уже не причастен». Напиши о нем, дорогой Леман, дорогой студент исторического отделения Иван Леман. В одном я не сомневаюсь. Об одном я сожалею. В одном я всесовершенно уверен. В том, что тебе, дорогой Иван Леман, не удастся сказать на его могиле поминальную речь!
5— Все негры — брюнеты. Я — брюнет. Следовательно, я — негр?
Меньшая посылка навряд ли была верна. Профессор логики Визель не был брюнетом. Он был сед. Целая туча седых волос сидела на кафедре. Из тучи изредка слышался смех.
Профессор был знаменитый хохотун и насмешник.
Высокий студент с великолепным носом, с волосами, вдохновенно закинутыми назад, стоял перед ним и, что называется, «плавал».
Он «плавал» уже минут двадцать, но достоинства не терял. На каждый вопрос Вязеля он оскорбленно взмахивал шевелюрой, шевелил губами, но молчал.
В экзаменационном листе напротив его фамилии давно уже была нарисована лодочка. Таков был Визеля обычай. Если студент выплывал, к лодочке приделывался плюс, похожий несколько на парус, если же тонул — минус, который можно было, пожалуй, принять за сломанный руль.
К концу сессии целый водный транспорт всплывал на поверхность студенческих неудач.
Ногин, невыспавшийся, усталый, злой, сидел на последней парте и зевал, разглядывая знакомый потолок пятой аудитории.
В книгу он, верный испытанному правилу — перед смертью не надышишься, — не смотрел. Экзамен был приготовлен сгоряча, в три дня.
Три дня подряд он вставал в шесть часов утра и до поздней ночи изучал законы логического мышления, методы опровержения суждений.
Латинское стихотворение, придуманное средневековыми монахами для облегчения запоминания правильных модусов, хлопало в его мозгу, как оконные ставни.
Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, prioris,
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, secundae…
Седая грива волос на кафедре казалась ему логической ошибкой.
— Ну, хорошо. Оставим негров. Очевидно, вы, коллега, питаете неприязнь к народам хамитской расы. А вот что вы скажете по поводу такого силлогизма? Вы — не то, что я. Я — человек. Следовательно, вы — не человек?
На этот раз студент нашелся быстро.
— Ошибка здесь в том, — уверенно сказал он, — что я тоже человек.
К лодочке на экзаменационном листе неторопливо приделывался руль.
— Не смею сомневаться, — очень серьезно возразил Визель, и весь заходил от хохота на своем тряском стуле, — весь вопрос в том, очень ли вы занятой человек и не можете ли вы прийти ко мне еще раз?
Студент молча взял обратно матрикул и раздраженно засунул его в курс логики, который держал в руках. Он ничего решительно не знал, ни на один вопрос не ответил.
Тем не менее, выходя из аудитории, он громко сказал, оскорбленно тряхнув шевелюрой:
— Гм, странно!
И с треском захлопнул дверь.
Ногин невесело посмеялся ему вслед: «Вот сейчас пойдет эта толстуха, кубышка, которая с утра до вечера катается по университетскому коридору. Тоже срежется, пожалуй. Потом я. И черт их возьми, зачем заставляют они восточников возиться с логикой. Визель бородат. Я не бородат. Следовательно, я не Визель. И никакой ошибки нет, я и в самом деле не Визель. И пролечу я сейчас у этого Визеля, как пуля. Эх, нужно было к Вязлову пойти, Вязлов хорошо экзаменует».
Час назад, когда, в томительном ожидании профессора, он бродил между библиотекой и буфетом, знакомая курсистка рассказала ему, как ее экзаменовал по логике Вязлов. Он задал ей только один вопрос:
— Понятия бывают отрицательные или не бывают?
— Бывают, профессор, — твердо ответила курсистка.
Он пожевал губами, равнодушно посмотрел на нее, немного подумал. Потом поставил в ее матрикуле «вуд». Потом спросил, ткнув пальцем в сторону двери:
— А что ж, там еще многие хотят экзаменоваться?
— Очень многие, профессор.
— Ага. Так вот, подите к ним и скажите, что понятия отрицательными не бывают.
А кубышка-то прекрасно знала предмет! Не давая Визелю сказать ни слова, она энергично и даже как-то хозяйственно сообщила ему, что она аккуратнейшим образом посещала его лекции, что не кто иной как именно Декарт был одним из виднейших представителей рационализма, что два частных суждения, состоящих из одинакового материала, но имеющих разное качество, называются относительно друг друга подпротивными…
И Визель приуныл. Он грустно ерошил бороду. Он свесил с кафедры другую руку, и Ногин разглядел на ней, на мизинце, длинный, отточенный, желтый ноготь.
«Нет, не подходит к Визелю этот ноготь, — подумалось Ногину, — к бороде не подходит. Он, должно быть, им на полях отмечает. А что еще можно таким ногтем делать? Миндаль выковыривать?.. Щекотать?.. Чесаться?.. А ведь кубышка-то сдает! Ай да кубышка, хозяйственная комиссия».
Студент, похожий на гриб, тот самый, который у выхода из аудитории сторожил и проверял список экзаменующихся, давно уже подавал ему знаки.
Ногин кивнул ему и поднес руку к виску. В виске стучало, какой-то круглый пузырек катался под пальцами. Он привычно скрестил их, как это делал, бывало, на хлебных шариках — и вот два пузырька начали кататься под пальцами. Давило на глаза, и все казалось нестройным, как при болезни.
Когда он поднялся, чтобы подойти к кафедре, он еще надеялся, что знакомая четкость придет к нему, едва только он произнесет первое слово.
Но четкость не пришла.
Он молча смотрел на дремучую, на грязно-седую бороду Визеля, и борода все разрасталась, становилась все гуще, все грандиозней. Непослушным ртом он сказал что-то о субъектах и предикатах. Бесконечный желтый ноготь водил по экзаменационному листу, отыскивая его фамилию. Эх, напрасно не пошел он к Вязлову!
— При законе исключенного третьего, — услышал он самого себя и удивился, у него был чужой и напряженный голос, — при законе исключенного третьего…