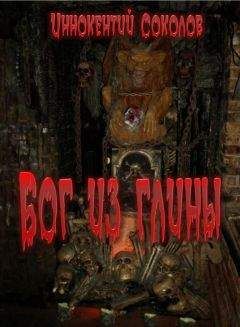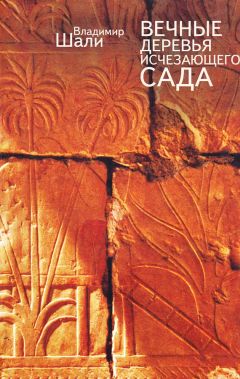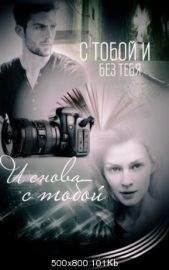Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
В этом городе, куда на зиму съезжалась приисковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чаду она чувствовала силу женского обаяния. Это проснулось незаметно.
И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских отношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди золотой молодежи, среди тузов золота, важных чиновников, она чувствовала себя нагой, сильной только как женщина, как мраморная статуя.
– Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготне по метеорологическим станциям?
У него выхоленное лицо, мундир, крупные брильянты в перстнях.
Она чуть усмехается.
– Я же состою членом географического общества… мне поручаются научные работы.
– Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех, кто вышел в тираж, для вас – свет, удовольствия. Нельзя себя закапывать в запыленные фолианты…
– Но ведь…
– Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ… Ха-ха-ха… Что было бы…
– А у меня к вам просьба.
Он предупредительно привстает и кланяется.
– Приказывайте!
Она смотрит, и ее черные, спокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем особенным девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: «Видишь, молода, крепка, стройна… упруга девичья грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, но мне решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ни намека на вольность». И она чувствует, как этот немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражающе-упруго отделяет от нее мужчин, постоянно притягивая их к ней.
– Видите ли… как раз по поводу ненавистной вам науки.
– Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.
Глаза лукаво смеются.
– Ну-ну… не сразу… Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина… вот даже вы…
– Помилуйте, вы не так меня поняли… напротив, меня чрезвычайно интересует… Словом, приказывайте, все сделаю, что в моей власти.
– Я попрошу вас, – она говорит спокойно-приказательно, – я попрошу вас… нельзя ли будет выдать мне открытый лист для поездки и… и маленькое… маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействии, чтобы помогли ориентироваться. Вообще ведь трудно, ничего не знаю…
Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.
– Н-да!.. Надо будет вас представить губернатору. От него зависит. Я все устрою, – говорил он решительно и с таким лицом, как будто хотел сказать: «Видишь – для тебя я все делаю».
А она спокойно глядела глубокими глазами с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: «Знаю, но мне решительно все равно, и между нами по-прежнему такое же расстояние…»
И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и красива, обычные, обязательные рамки человеческих отношений странно для нее раздвигаются.
И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особенного положения, любезно согласился на просьбу.
4Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился везде, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по лощине, и редко мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбеленными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта бесконечно бегущая, скрипучая дорога.
Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.
Молчаливая пустыня раздвигалась скупо, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели избы, стлался только иссиня-сверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизне склонов темнели леса, но и там, должно быть, было пусто и мертво – ни зверя, ни птицы, ни дыхания.
Два человека чернели среди громадной, молчаливо думающей пустыни в кошеве [кошева – сани], быстро скрипевшей по снежной дороге.
– Нно-но, милая!..
Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизонт с обеих сторон горы.
Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Тысячи мыслей, представлений, воспоминаний.
– Ямщик, скоро?
– Скоро, скоро, барышня, скоро… поспеем.
Усилием воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь белой вершиной небес. И черною ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похороненных страданий.
Толчок, ухабы, сани прыгают, лошади все так же поматывают думающими головами, все так же холодно искрятся ослепительные сопки.
И вдруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то гигантский разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные снега. Глаз, отдыхая, останавливался на бледно-розовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а нежными чайными розами. Среди мертвых морозов, мертвых снегов, среди молчащей пустыни чудные розы говорили о далекой весне, о ласке тихо сверкающего теплого моря, о благоухании томящих ночей.
И чудилось, что он ходит, улыбающийся, с ясным лицом, свободный, и радостно ждет ее, и розы устилают путь, душистые бледные розы. Он ждет ее, невесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тихий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песню, тихо и радостно звучащую мелодию. Ах!..
– Ямщик, скоро ли?
– Скоро, скоро, барышня… Зараз вон за сопкой поворот… Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь…
Лошади по-прежнему покачиваются, обдумывают.
– Ямщик, что это красное по горам?
– Багульник, кусты, стало быть.
Только всего багульник. Нет роз, нет тихо поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачный, по лощине, по сверкающим очертаниям гор… Багульник, голые безлистые красные кусты багульника!..
Все просто, все так же страшно просто, как там, в России, как в эти два года в сибирском городке, все просто, все на своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.
– Вот и Акатуй!
Он показывает кнутом.
Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся, почернелых, как загнившие грибы, избушек нищей деревушки, впивается в сопку.
Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенная снегом сопка, и десяток крохотных, игрушечных, покосившихся, полусгнивших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно и так страшно. Звон цепей, бледное, исхудалое, обросшее лицо… Все на своем месте, все в железном порядке.
Она тяжело вздыхает.
На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в последних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминание ли, что человеческое великодушие, любовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнодушной пустыне жизни?
Показывает кнутом:
– Барин похоронен, декабристом прозывается.
Полуразвалившиеся, слепые избушки позади. Вот и дом начальника тюрьмы – свежий сруб, новая тесовая крыша.
Дальше в полуверсте рядами застроенных бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди…
Так просто, так обыкновенно!
– Господина начальника нету дома, они уехали. Они будут завтра утром. Вы пожалуйте в комнаты, я зараз велю самовар поставить.
«Ведь он здесь… здесь… всего сто шагов…»
И ей хочется рвануться, броситься, бежать туда, кричать из-за палисада, но вместо этого садится за накрытый стол и берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостьи.
– Гляжу я на вас, из России вы… Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть…
Слезинка тихонько сползает по щеке.
– Вы давно здесь?
– Четвертый год.
– Что же вы стоите? Садитесь.
– Нет, я постою… Нас презирают на таком положении.
– Вы служите?
– Нет… – она густо краснеет, – господин начальник взяли меня к себе… – И, отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит: – Я уголовная… Такое положение… Никуда не денешься.