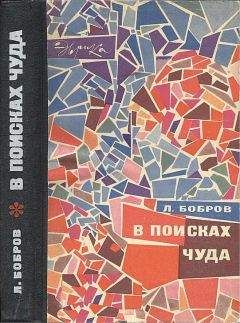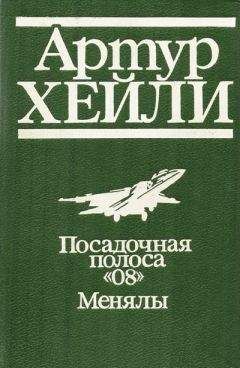Сергей Каширин - Полет на заре
«Земля! Честное слово, земля! Берег…»
Нет, он не кричал. Он лишь мысленно произнес эти слова, различив впереди темную полоску земли.
Летчик веселее взмахнул руками, подгребая дощечками. Теперь есть цель: плыть туда, к берегу, который смутно вырисовывается на горизонте.
Смотри-ка, и тумана как не бывало. Просторно, ясно и свежо кругом. А он и не заметил, когда это произошло. У него возникло мучительное, непреодолимо острое желание: выскочить из лодки и кинуться вперед бегом. Бежать и бежать. Ведь это же нестерпимо — двигаться так медленно!
Увы, по волнам не помчишься вприпрыжку. Не сходи с ума. Плыви… Сколько метров до показавшегося на горизонте берега? Если ты находишься на относительно ровной поверхности — а море ровное, — то горизонт виден в радиусе четырех километров или что-то около этого. Четыре километра — это четыре тысячи метров. Если гребок — метр, осталось четыре тысячи взмахов. Это не так много.
— Раз. Два. Три… И четыре. И пять…
Считая взмахи, Иван упорно греб. Сто гребков — отдых.
— Пятьдесят три…
Тяжело. Отдохнуть? «Грош мне цена, если не выдержу первой сотни».
— Шестьдесят один…
Жарко. Это хорошо. Черт побери, он живет. Он еще поборется.
— Девяносто два…
Как трудно дышать! Не хватает воздуха. Во рту все пересохло. Хотя бы один глоток воды.
— Сто!
Танталовы муки. Сизифов труд. Грозилась синица море поджечь. Взялся летчик море переплыть…
«Вы слышали?»
«О чем?»
«Как летчик море переплыл».
«Это зачем?»
«Шутки ради».
«Брось чудить».
«Не веришь? А я его знаю. Своими глазами видел. Разговаривал с ним. По плечу хлопал. Вот как тебя. Парень на все пять баллов. Наш. Пилотяга. Представляешь? Нет, ты только представь: летчик и море. Один на один. Ночь. Шторм. Дождь. Туман. А он — один».
«Подожди, друг. Загибать ты мастер. Читал я, что кто-то там через Ла-Манш плыл. Или собирался. Ты про него?»
«Ха!.. Ты где, в отпуске был? Тогда простительно. Ведь парень из нашего полка. Ваня Куницын».
«Куницын? Такие шутки о нем? Да ты, часом, не того, а?»
«…А я уже разговариваю сам с собой. И перед глазами все кружится. Со счета давно сбился. Нет, так не годится. Видишь — берег. Это — ориентир. Держи курс прямехонько на него. И утки туда потянули. Эх, ружьецо бы! Стой, а где берег?»
Берега нет. Куда же он девался? Померещилось? Да нет же, вот он. Просто, если долго грести одной рукой, уклоняешься в сторону. Но если при небольшом уклонении видишь не землю, а море, то впереди не берег. Точно, впереди — остров. Не прежний ли? Вот будет шутка: пробарахтался целый день в холодной воде ради того, чтобы покружит в море и вернуться туда, откуда уплыл.
Ах, какая разница! Старый остров — пусть так. Все равно. Судороги раз за разом сводят ноги и спину. Лучше к самому черту в зубы, чем оставаться в ледяных волнах. Это же наказание. Пытка. Сердце молотит, как реактивная турбина, а кровь застыла в жилах, и ты чувствуешь себя связанным, скованным тяжелыми цепями. Порвать их, порвать…
Так, еще сто метров. Отдохни и не надрывайся, рассчитывай силы, финиш еще далеко. Четыре километра минус…
«Какое — четыре? Все сорок. Дистанция марафонского бега. А я плохой гонец. Почему плохой? Я — разрядник. И — летчик. Военный летчик. Капитан».
«Капитан Куницын!»
«Я».
«Слушайте приказ! Вам надлежит срочно доставить вплавь через море срочное донесение командиру части полковнику Горничеву. Передайте ему устно, что ваш самолет потерпел аварию, а не катастрофу. Выполняйте».
«Есть».
«Приказ должен быть выполнен точно, беспрекословно и в срок…»
«Знаю, так гласит воинский устав. Да вот срок…»
Три с половиной километра — это примерно три тысячи пятьсот гребков. Каждый взмах руки для гребка — две секунды. Семь тысяч секунд. Два часа. Даже меньше, если приналечь на весла. Вечереет? Какая разница — в темноте плыть или при дневном свете! На этом острове тоже установлен маяк, ориентиром будет его свет.
И Куницын снова плыл. Долго плыл, очень долго. То ли расчеты его оказались неверными, то ли течение относило лодку назад или в сторону, но давно наступила ночь, третья ночь одиночества, а он все еще не обнаружен.
Мысли об этом вызывали щемящее чувство досады и горечи. Превозмогая усталость и боль в одеревеневшем теле, он греб уже почти машинально. У него осталась одна-единственная и последняя надежда: доплыть до острова, разжечь от маяка костёр и обогреться.
В довершение ко всему совсем занемела шея, сама собой опускалась голова. И тут вдруг Иван заметил, что вода при каждом взмахе рукой отчего-то искрится, горит. Несмотря на изнеможение, он, как загипнотизированный, смотрел на фосфоресцирующий блеск, пытаясь понять его происхождение. У него рябило в глазах…
Лодка наконец ткнулась днищем в отмель. До берега было рукой подать, но у летчика едва хватило сил выбраться на сушу. Ноги совсем не держали его. Особенно правая, на которой он больше сидел. Куницын прилег. И тотчас замельтешили в глазах радужные пятна. Было такое ощущение, будто он проваливается в пропасть.
Его привела в чувство волна. Она словно подтолкнула капитана, и он пополз.
Передвигаться таким образом было, пожалуй, даже унизительно. Иван невесело хмыкнул. Он, заядлый охотник и спортсмен-разрядник по бегу, хаживал, бывало, десятки километров, а тут какую-то сотню метров вынужден ползти, как черепаха, пока доберется до маяка…
Маяк был копией той конструкции, что и на предыдущем острове. Здесь так же валялось много бревен, обрезков досок и щепок, пахло прелью. В сторожке, где стояли баллоны с горючим газом, он нашел сухую палку и расколол ее на растопку. Помня свой прежний печальный опыт, решил сделать что-то вроде факела. Но из чего? Одежда мокрая, в ней не найдешь сухого куска, который можно поджечь. Поразмыслив, Куницын снял со шлемофона компенсаторную тягу. В полетах при сильных перегрузках она прижимала к лицу кислородную маску. Пусть послужит ему еще раз. Из зеленой ленты и резины действительно получилось что-то похожее на факел.
На вышке маяка летчик с осторожностью, на какую был еще способен, приподнял колпак и сунул в пламя свой факел. Резиновые жгуты плавились, обугливались и гасли. Упрямо поджигая их, Иван не один раз поднимал, а затем опускал колпак, чтобы не потушить горелку. А факел упорно не хотел гореть, чадил, тлел, покрывался нагаром, но не занимался пламенем. Только потом, когда летчик завернул в него карандаш и расческу, грубая ткань наконец вспыхнула. Как величайший дар, он понес огонь к груде поленьев.
Костер тоже разгорался медленно. Сырые поленья долго шипели и дымили. От дыма резало воспаленные глаза, текли слезы. И летчик пожалел о том, что не носил на шлемофоне очки. Думал: зачем они в герметичной кабине реактивного самолета? А как бы пригодились после приводнения да и сейчас!
Огонь все-таки победил влагу, и радости пилота не было предела. Он протягивал к пламени руки, поворачивался то одним боком, то другим, постанывая от удовольствия, потом прилег отдохнуть и посушить одежду. От мокрого обмундирования повалил пар, запахла кислым овчина куртки, начало припекать, а Ивану не хотелось отодвигаться от костра.
Он долго лежал, наслаждаясь теплом и покоем. Тело постепенно отходило, но боль сменилась невыносимо противным зудом, и еще сильнее начали мучить голод и жажда. У него так пересохло во рту, что язык, казалось, шуршал, как бумага, а нёбо и десны горели, открытым ртом нельзя было дышать. А рядом, как бы дразня, шумело море. Целое море воды! Это просто пытка: знать, что вода — вот она, и не иметь возможности напиться…
«Иван, ты знаешь, почему в море много воды?»
«Нет, не знаю, отец. А почему?»
Отец хитро улыбается и рассказывает:
«Это, значит, вот как было: цыгане на юг ехали. Всем табором. Дело к осени шло, ну они и тронулись к теплу. День катили, другой, третий. Сначала лесом, потом по степи. А тут, на грех, солнце припекло. Жарища — не дай бог. От колес, от копыт — пыль столбом. Песок на зубах захрустел. Пить хочется, а где попьешь в голой степи? И вдруг прохладой потянуло. Глядь — озеро. Огромное. Большущее такое…
— Мираж? — спросил кто-то, не веря своим глазам.
— Не озеро и не мираж, — сказал старый цыган. — Это море.
Море. Лениво накатывается на берег теплая волна. Подошли к ней лошади, встали — не пьют.
— Умные кони, — сказал старый цыган. — После долгого бега сразу пить нельзя. Да и спешить некуда: воды много, всем хватит.
И сам, по праву старшего, шагнул к воде первым. Помедлил. Зачерпнул полные пригоршни воды. Жадно глотнул и…
Полезли у мудрого цыгана глаза на лоб от удивления.
— Так вот почему в море много воды: ее никто не пьет да и не станет пить. Горькая…»
На лице отца добрая, лукавая улыбка. «Не смейся, отец. Мне так трудно…» «Крепись, сынок…»