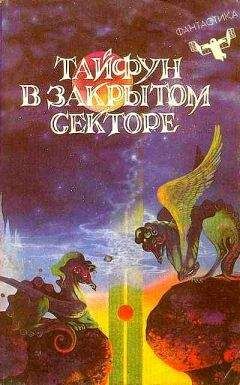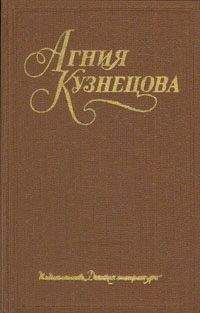Александр Солженицын - Один день Ивана Денисовича
Всё ж, пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул.
— Ну, прощайте, братцы, — растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошёл за надзирателем.
Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь? Сами клали БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лёд со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если в зуботряске улежишь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.
Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уже не вылезешь.
А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой.
Пока в бараке живёшь — молись от радости и не попадайся.
— А ну, выходи, считаю до трёх! — старший барака кричит. — Кто до трёх не выйдет — номера запишу и гражданину надзирателю передам!
Старший барака — вот ещё сволочь старшая. Ведь скажи, запирают его вместе ж с нами в бараке на всю ночь, а держится начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет. Инвалид считается, потому что палец у него один оторван в драке, а мордой — урка. Урка он и есть, статья уголовная, но меж других статей навесили ему пятьдесят восемь-четырнадцать,{29} потому и в этот лагерь попал.
Свободное дело, сейчас на бумажку запишет, надзирателю передаст — вот тебе и карцер на двое суток с выводом. То медленно тянулись к дверям, а тут как загустили, загустили, да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери узкие.
Шухов, держа в руке уже скрученную, давно желанную цыгарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не заработать ещё от Цезаря хотел, а пожалел от души: небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть: посылку получив, не гужеваться[16] надо было над ней, а до проверки тащить скорей в камеру хранения. Покушать — отложить можно. А теперь — что́ вот Цезарю с посылкой делать? С собой весь мешочище на проверку выносить — смех! — в пятьсот глоток смех будет. Оставить здесь — не ровён час, тяпнут, кто с проверки первый в барак вбежит. (В Усть-Ижме ещё лютей законы были: там, с работы возвращаясь, блатные опередят, и пока задние войдут, а уж тумбочки их обчищены.)
Видит Шухов — заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. Суёт колбасу и сало себе за пазуху — хоть с ими-то на проверку выйти, хоть их спасти.
Пожалел Шухов и научил:
— Сиди, Цезарь Маркович, до последнего, притулись туда, во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядать, тогда выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу первый. Вот так…
И убежал.
Сперва протискивался Шухов круто (цыгарку свёрнутую оберегая, однако, в кулаке). В коридоре же, общем для двух половин барака, и в сенях никто уже вперёд не пёрся, зверехитрое племя, а облепили стены в два ряда слева и в два справа — и только проход посрединке на одного человека оставили пустой: проходи на мороз, кто дурней, а мы и тут побудем. И так целый день на морозе, да сейчас лишних десять минут мёрзнуть? Дураков, мол, нет. Подохни ты сегодня, а я завтра!
В другой раз и Шухов так же жмётся к стеночке. А сейчас выходит шагом широким да скалится ещё:
— Чего испугались, придурня? Сибирского мороза не видели? Выходи на волчье солнышко греться! Дай, дай прикурить, дядя!
Прикурил в сенях и вышел на крыльцо. «Волчье солнышко» — так у Шухова в краю ино месяц в шутку зовут.
Высоко месяц вылез! Ещё столько — и на самом верху будет. Небо белое, аж с сузеленью, звёзды яркие да редкие. Снег белый блестит, бараков стены тож белые — и фонари мало влияют.
Вон у того барака толпа чёрная густеет — выходят строиться. И у другого вон. И от барака к бараку не так разговор гудёт, как снег скрипит.
Со ступенек спустясь, стало лицом к дверям пять человек, и ещё за ними трое. К тем трём во вторую пятёрку и Шухов пристроился. Хлебца пожевав да с папироской в зубах, стоять тут можно. Хорош табак, не обманул латыш — и дерунок, и духовит.
Понемножку ещё из дверей тянутся, сзади Шухова уже пятёрки две-три. Теперь кто вышел, этих зло разбирает: чего те гады жмутся в коридоре, не выходят. Мёрзни за них.
Никто из зэков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы? Зэку только надо знать — скоро ли подъём? до развода сколько? до обеда? до отбоя?
Всё ж говорят, что проверка вечерняя бывает в девять. Только не кончается она в девять никогда, шурудят проверку по второму да по третьему разу. Раньше десяти не уснёшь. А в пять часов, толкуют, подъём. Дива и нет, что молдаван нынче перед съёмом заснул. Где зэк угреется, там и спит сразу. За неделю наберётся этого сна недоспанного, так если в воскресенье не прокатят — спят вповалку бараками целыми.
Эх, да и повалили ж! повалили зэки с крыльца! — это старший барака с надзирателем их в зады шугают! Так их, зверей!
— Что? — кричат им первые ряды. — Комбинируете, гады? На дерьме сметану собираете? Давно бы вышли — давно бы посчитали.
Выперли весь барак наружу. Четыреста человек в бараке — это восемьдесят пятёрок. Выстроились все в хвост, сперва по пять строго, а там — шалманом.
— Разберись там, сзади! — старший барака орёт со ступенек.
Хуб хрен, не разбираются, черти!
Вышел из дверей Цезарь, жмётся — с понтом[17] больной, за ним дневальных двое с той половины барака, двое с этой и ещё хромой один. В первую пятёрку они и стали, так что Шухов в третьей оказался. А Цезаря в хвост угнали.
И надзиратель вышел на крыльцо.
— Раз-зберись по пять! — хвосту кричит, глотка у него здоровая.
— Раз-зберись по пять! — старший барака орёт, глотка ещё здоровше.
Не разбираются, хуб хрен.
Сорвался старший барака с крыльца, да туда, да матом, да в спины!
Но — смотрит: кого. Только смирных лупцует.
Разобрались. Вернулся. И вместе с надзирателем:
— Первая! Вторая! Третья!..
Какую назовут пятёрку — со всех ног, и в барак. На сегодня с начальничком рассчитались!
Рассчитались бы, если без второй проверки. Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают: тот и неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята. А этих и натаскивают, да без толку.
Прошлую зиму в этом лагере сушилок вовсе не было, обувь на ночь у всех в бараке оставалась — так вторую, и третью, и четвёртую проверку на улицу выгоняли. Уж не одевались, а так, в одеяла укутанные выходили. С этого года сушилки построили, не на всех, но через два дня на третий каждой бригаде выпадает валенки сушить. Так теперь вторые разы стали считать в бараках: из одной половины в другую перегоняют.
Шухов вбежал хоть и не первый, но с первого глаз не спуская. Добежал до цезаревой койки, сел. Сорвал с себя валенки, взлез на вагонку близ печки и оттуда валенки свои на печку уставил. Тут — кто раньше займёт. И — назад, к цезаревой койке. Сидит, ноги поджав, одним глазом смотрит, чтобы цезарев мешок из-под изголовья не дёрнули, другим — чтоб валенки его не спихнули, кто печку штурмует.
— Эй! — крикнуть пришлось, — ты! рыжий! А валенком в рожу если? Свои ставь, чужих не трог!
Сыпят, сыпят в барак зэки. В 20-й бригаде кричат:
— Сдавай валенки!
Сейчас их с валенками из барака выпустят, барак запрут. А потом бегать будут:
— Гражданин начальник! Пустите в барак!
А надзиратели сойдутся в штабном — и по дощечкам своим бухгалтерию сводить, убежал ли кто или все на месте.
Ну, Шухову сегодня до этого дела нет. Вот и Цезарь к себе меж вагонками ныряет.
— Спасибо, Иван Денисыч!
Шухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх. Можно двухсотграммовку доедать, можно вторую папиросу курнуть, можно и спать.
Только от хорошего дня развеселился Шухов, даже и спать вроде не хочется.
Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас (на простыне Шухов не спал, должно, с сорок первого года, как из дому; ему чудно даже, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя), голову — на подушку стружчатую, ноги — в телогрейку, сверх одеяла — бушлат, и -
— Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!
Спасибо, что не в карцере спать, здесь-то ещё можно.
Шухов лёг головой к окну, а Алёшка на той же вагонке, через ребро доски от Шухова, — обратно головой, чтоб ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает.
Лампочка от них не так далеко, можно читать, и шить даже можно.
Услышал Алёшка, как Шухов вслух Бога похвалил, и обернулся.
— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему ж вы ей воли не даёте, а?
Покосился Шухов на Алёшку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул.