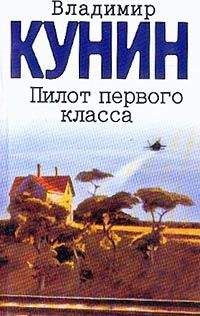Римма Коваленко - Конвейер
— Нашелся — не исчезнет. Завтра его и повидает.
Это не укладывалось в голове.
— Вы же человек, — сказала я, — представьте себе, что это ваш муж такой тяжелораненый нашелся.
— Он бы под моими дверями кровью истекал, — ответила вахтерша, — я бы и тогда не вышла. Молодые вы еще: «муж, муж»! А дело такое, что смотря какой муж. Бывает такой муж, что хуже войны.
Кажется, вахтерша смилостивилась. Не помню Шуркину мать и ее встречу с мужем. Помню, что в тот день мы с Ирой до позднего вечера были в госпитале. Сидели в палате Люсьены Цветковой.
Она была единственной женщиной-раненой во всем госпитале, и у нее была отдельная палата. Узкая комната с койкой, столом, покрытым простыней, стульями и голубой тумбочкой. На высоком окне висели белые шелковые занавеси, пол сиял чистотой. Голубоглазая, будто из белого шелка сотканная, Люсьена была родной сестрой этой комнаты. Люсьена сидела на кровати, положив под спину подушку, и радовалась, что залучила нас в слушатели.
— Я вернусь на сцену, — говорила она, затягиваясь табачным дымом. — С моим талантом мне волноваться нечего. Будет протез. Будут подбирать специальные пьесы, чтобы не очень много надо было ходить по сцене. Сейчас у меня задача — дождаться ответа из Москвы. Два ордена Красной Звезды и Отечественную первой степени должны переслать сюда, в госпиталь. Оттого и сижу здесь, теряю золотое времечко.
Она рассказала, как перед уходом в разведку отдала свои награды и документы комсоргу, а тот через два дня погиб в бою. Документы и награды Люсьены переслали в Москву, но там в штабе сидит тыловая крыса — ее бывший поклонник, — он и вставляет палки в колеса.
— Получила недавно от него письмо: не согласишься стать моей — в будущем пеняй на себя. Вот такие мои дела, девочки, поверить трудно.
Я не трудилась верить. Ира тоже. Мы глядели на Люсьену, и наши взгляды были переполнены ожиданием. Мы ждали терпеливо и требовательно, когда Люсьена перестанет врать и расскажет о себе правду. Ведь правда была такая, что все придумки перед ней бледнели. Она сидела, эта правда, перед нами в госпитальном халате, с костылем на колене, с прекрасным лицом и фронтовым прошлым.
— Люсьена, страшно на войне?
— На войне — как на сцене, только зрителей нет, — ответила Люсьена. — Немного страшно, но больше обидно, что тебя никто не видит.
Аделаида умерла в больнице. Комнату Аделаиды опечатали. Я проходила мимо темной двери, на которой висел, как жук, маленький замочек с усиками проволоки и алюминиевой пломбой. Почерневшая и озлобившаяся к весне сорок четвертого, Тоська Орлова поджидала меня на крыльце, хватала за рукав.
— Кто замок повесил? Мне Аделаида, когда в больницу собиралась, велела вещи забрать.
— Ее ночью увезли, без сознания.
— Верно, ночью. А днем, когда она в сознании была, велела мне вещи, в случае чего, забрать.
Потом умер принц. Он долго болел, и его роль в «Золушке» стала играть Ая Коркина. Потом мы стали репетировать «Снежную королеву». Принц все болел, и роль Кая мы тоже отдали Коркиной.
Мать Игоря вызвала меня с урока, приблизилась, уткнулась в грудь.
— Зайди к нам, деточка. Попрощайся. Умер Игорек.
Я сходила за Ирой, и мы вместе пошли прощаться.
Игорь лежал на столе, покрытый вышитой скатертью, гроб еще не был готов. По стенам комнаты сидело много женщин, в чем-то похожих друг на друга, сидели молча, прикладывая к глазам носовые платки.
— Это наши, ленинградские, — сказала мать Игоря.
Пришла старушка, маленькая, сухая, похожая на китаянку. Развязала мешочек, вытащила коробочку с ярко-розовой пудрой.
— Не надо, — сказала ей мать Игоря. — У нас так не делают.
Старушка не обратила внимания на ее слова. Попудрила Игорю щеки, начесала на лоб кудри. Он стал похож на спящего ангела. Мать его внесла на блюде гору оладий, стала обносить гостей.
— Может, она ему не родная? — спросила Ира.
Мне тоже казалось странным, что она не плачет, а хлопочет, разговаривает, угощает пришедших.
Заплакала она на кладбище. Закричала так, что вздрогнул весенний кладбищенский лесок и потемнело небо. Упала на холмик глинистой земли рядом с неглубокой ямкой-могилой, и тут же крупными каплями пошел холодный майский дождь. Мы промокли. На обратном пути Ира сказала:
— Пошли к нам. Бабушка даст лекарства. А то заболеем и тоже умрем.
Ей было в ту весну десять, а мне четырнадцать. Моя мать не любила нашу дружбу.
— Ей с тобой, конечно, польза, а что она тебе может дать?
Я пыталась выставить Иру и всех моих девочек в самом выгодном свете — мол, они и умные, и случаи с ними случаются необыкновенные, рассказывала, как Шура Жук встретилась в госпитале с отцом. Мать слушала и обрывала меня:
— Ври, да знай меру.
Она не верила мне. А я не верила Люсьене Цветковой. Подозревала, что она никогда не была артисткой, что никаких орденов ей не давали, даже имя и фамилию она себе выдумала. Была разведчицей — стала Люсьеной Цветковой, на самом же деле какая-нибудь Клавдия Фролова.
Но Люсьена оказалась настоящей Люсьеной. Когда через двадцать лет я приехала в командировку в сибирский город, укрывший нас от войны, голос Люсьены встретил меня в маленьком номере старой гостиницы.
— …Областные последние известия читала диктор Люсьена Цветкова.
Мы потом встретились с нею. И были еще встречи с моими одноклассницами. Много было встреч, и ни одной, о которой мечтала. Ни одной встречи с девчонками из моего отряда.
Я их с каждым годом вспоминаю все чаще и чаще. В каждом городе я заглядываю в лица нынешних третьеклассниц. Кто из вас Ая, кто Шура? С кем ты сегодня дружишь, Ирочка?
Дарья
Вернувшись из эвакуации, мы поселились на узкой немощеной улице, которая вытянулась вдоль парка в самом центре города. Деревянные, смятые и раздерганные, как после урагана, домики стояли один в один черными рядами. Была осень, еще шла война, за углом нашей улицы зияли пустыми окнами коробки многоэтажных зданий: груды битого кирпича тянулись километрами вдоль бывших больших улиц. А эта хлипкая уличка уцелела, каким-то чудом спаслась. Мы вернулись в Минск в октябре сорок четвертого, через четыре месяца после его освобождения. И когда забрели на эту уличку, то сразу даже не заметили, что ее не жгли, не бомбили, просто сама собой она была такая черная и убогая.
В тот год нельзя было сесть в поезд и поехать в город, который освободили от немцев. Нужен был вызов. Его прислала нам в Томск малознакомая женщина, с которой мать случайно встретилась в какой-то очереди и разговорилась. Была та женщина инженером, коренной сибирячкой, ехала в Белоруссию не по собственному выбору, а по разнарядке, как тогда говорили, — на восстановление. Мать расплакалась: «Да я бы там не ела, не спала, восстанавливала бы все подряд, что скажут, только бы вернуться». — «Напишите адрес. Я пришлю вам вызов», — сказала женщина и прислала.
Этот вызов с такой силой выбил из-под матери клин — верить всем — веры не напасешься, тебе говорят — ты слушай, да уши не развешивай, — что она, вернувшись, несколько месяцев подряд маялась, где бы кого найти, кого бы облагодетельствовать, послать вызов. И когда из деревни пришло письмо, что Дарья вернулась с фронта, а на хуторе если б не мельница, то и места, где стояла ее хата, не найти, мать тут же стала хлопотать Дарье вызов. Отправила его заказным письмом и стала ждать племянницу. Не знала, что та приедет с сыном, с лялькой, как у них в деревне называли грудных детей.
Я помню, как Дарья появилась на нашем пороге. Была уверена, что явится фронтовичка в пилотке, сапогах, в гимнастерке под ремнем, а появилась довольно толстая высокорослая тетка в платке, с чемоданом за спиной и с младенцем в голубом одеяле. Положила сына поперек подушки, на нашу единственную кровать, сняла платок и приложила палец к губам: «Тише». Мальчик спал. Я чуть не заплакала. Она сразу лишила нас и без того куцего жизненного пространства. Потом она пошла на половину хозяйки, вернулась с цинковым корытом, грела воду, купала мальчика, а мы с матерью сидели и глядели на нее. Лишь иногда, чтобы уж совсем не казаться бессердечными чурками, гугукали какие-то слова малышу, похваливали, какой он крепенький да симпатичный.
Ночью мы с матерью спали на полу. Мальчик заплакал, Дарья не проснулась. Мать поднялась, поменяла ему пеленки, укачала. Укладываясь рядом со мной, шепнула:
— Вот деревня. Спит, как воз пшеницы продала.
Мать всегда своих попрекала деревней и стояла за деревенских горой, если попрек шел от городских. Дарья пудовой гирей упала на ее и без того нелегкую, неустроенную жизнь.
— Иди в военкомат, — говорила она ей утром, — ты фронтовичка, там о тебе и о твоей ляльке обязаны позаботиться.
Дарья в военкомат сходила, встала на учет, но с работой не спешила. Пока ребенку не исполнится год, ей полагался полуторный военный паек на себя и на ляльку. К тому же Дарье не хотелось отрываться от нас, единственных родных людей в чужом городе.