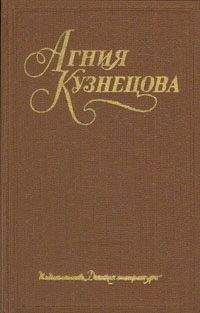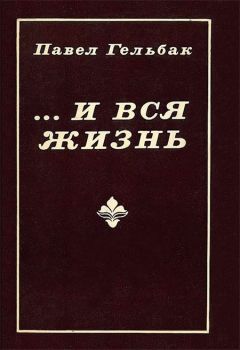Юрий Гончаров - Последняя жатва
Собрание шумело бы и дальше, да Илья Иванович весомо сказал, комкая в руках свернутую трубкой тетрадь:
– Это, конечно, нужное дело – образцы, примеры настоящего труда, но таким искусственным способом мы их создавать больше не будем. Правление это обсуждало и решило: вместо отдельных рекордов, как бы эффектны они ни были, бороться за ритмичную, предельно уплотненную работу всех уборочно-транспортных звеньев.
– Защемляете почин! – насупился Володька. – Закрываете дорогу новаторам!
– Почему? Почин и новаторство – проявляй, пожалуйста. Приветствуем. Но каким путем? Ищи у себя скрытые резервы. Их много. Рациональное использование каждой минуты рабочего времени. Отличная подготовленность агрегата – тоже резерв производительности, бесперебойной работы…
– Коростылев, да что ты ему объясняешь, первогодок он, что ли? Сам все знает. Давай говорить по делу. Про звенья. Мы вот своим звеном подумали и вот что хотим оказать…
Расходились уже в сумерках. Когда Рыбкин объявил собрание закрытым и все поднялись, Илья Иванович протолкался сквозь толпу к Петру Васильевичу, оказал: «Погоди», отвел его в сторону. Кто-то сунулся к Коростылеву с вопросами, просьбами, он отмахнулся рукой: минутку, подождите! Направив на Петра Васильевича блестящие стекла очков, отражавших желто-малиновый закат, Илья Иванович торопливо, пока их опять не перебили, спросил:
– Я-то тебя уже на комбайне числю, а ведь не узнал: будешь ты работать иль как? Сил у тебя хватит?
У Петра Васильевича дрогнуло, захолонуло внутри: дело вроде бы уже решилось, но надо было отвечать прямо, и Илье Ивановичу, и самому себе. А правда, хватит ли сил, ведь это не что-нибудь – уборка, страда… Это целый месяц – от зари до зари, а то еще и ночью. Вкалывать придется – будь здоров, воловьи жилы – и те слабоваты. Будут на него рассчитывать, а он подведет в самый разгар… И колхозу неприятность, а уж ему-то каково?..
Секунду-другую длилось это колебание в Петре Васильевиче.
– Да вроде бы потяну… – проговорил Петр Васильевич и несмело улыбнулся: отвечать твердо, решительно не было у него права. А про себя подумал: до начала косовицы время еще есть, он еще успеет прикопить силенок, подправить себя.
– Тогда вот что… – сказал Илья Иванович. – «Колос» на станции, на платформе, сегодня пришел. Завтра же выезжай с Митрошей, берите его с платформы и гоните сюда. И будешь на нем работать. За него уже перечислено, бумаги в «Сельхозтехнике» завтра я дооформлю, но взять его надо прямо с утра, пока они его к себе на усадьбу не увезли. А то попадет к ним, а там знаешь ведь, какой народ. Отвинтят что-нибудь, а потом и скажут – таким, дескать, пришел, железная дорога виновата. Значит, понял? Рано-рано утречком с Митрошей выезжайте, на молоковозе. А я по телефону договорюсь, чтоб вам прямо с платформы взять…
12
Митроша постучал в окошко, когда рассвет еще только занимался.
Петр Васильевич вышел из дома, из одной духоты в другую – недолгой и вместе с тем от беззвучия, тягостной неподвижности горячего воздуха как бы нескончаемо растянувшейся ночи. На деревенских дворах еще все усыпленно молчало. Полумрак истаивал над землей неравномерно: открытые места быстро освобождались от него, а там, где были плетни, кусты, заросли бурьяна, низенькие сарайчики, клетушки, еще удерживались его сгустки, делая все, что они окутывали, скрывали, неопределенным, размытым, неузнаваемым. Эти темные и точно бы неуловимо шевелящиеся пятна казались зримыми волнами того сухого, мертвого зноя, что теснил дыхание, покрывал тело липкой влажностью.
– А ты не рано? – спросил Петр Васильевич.
– Да уж проехал молоковоз на ферму. До грейдера дойдем – он как раз и поедет.
Петр Васильевич перекинул через руку свой старый рабочий пиджак, – может, в райцентре они с Митрошей заночуют, так пригодится. Вдвоем они молча зашагали по улице, Петр Васильевич – в легких брезентовых полуботинках, Митроша – скребя сухую землю заскорузлыми сапогами.
Митроша зевал, широко раздирая рот. Не выспался. Вечером, когда Петр Васильевич зашел к нему уговориться о поездке, он сидел в кампании с каким-то своим родичем, крепко хмельной.
Небо на восходе тепло и нежно желтело.
Бортовой грузовик с молочными флягами, гремуче подпрыгивая на сухих кочках, вывернул от фермы на широкий грейдер.
– Садись с шофером, – приказал Петр Васильевич. – А то такой-то из кузова на первом ухабе вылетишь!
Грузовик набрал скорость. Тугой ветер засвистел вокруг Петра Васильевича, ухватил его за волосы, стал их трепать, дергать, будто в намерении вырвать совсем. Полные молока алюминиевые фляги побрякивали, толкаясь друг о друга, иногда грузно подскакивали и грохали о днище все разом – на каком-нибудь крутом ухабе или глубокой выбоине. Серо-лиловая пыль бешено вихрилась за грузовиком. Когда грейдер слегка поворачивал, становилось видно, что сзади дорога до самого горизонта вся застлана непроглядной клубящейся мглой.
Да, совсем не то, что в председательском «Жигуле»! Фляга, на которой сидел Петр Васильевич, ерзала, норовила выскочить из-под него, спиной он то и дело ударялся о железную стенку шоферской кабины, рука, державшаяся за борт, срывалась. Отвык от такой езды, за месяцы своей болезни даже как-то успел позабыть, какие они – для колес, для ездоков – районные сельские дороги. Один только вот этот их молоковоз – и уже пыли на всю степь, за десять километров видно! А что будет на районных дорогах недели через две, когда пойдет из-под комбайнов хлеб, повезут его на тока, с токов – на хлебоприемные пункты, к станции?
Митрошу дорога тоже протрясла до самых потрохов, но на пользу: разогнала его сонную хмельную дурь. Вылез он ожившим, с повеселевшим лицом – точно не полчаса жесткой тряски получил, а какое-то приятное, нужное для себя удовольствие.
– Погоди, Василич, дай свои части на место прилажу, желтки с белками перемешались, – состроил он озорную ухмылку, раскорячивая ноги и поддергивая, оправляя на себе пояс и брюки, закрутившиеся чуть не винтом.
– Гад какой, чертяка! – ругнул он уехавшего шофера. – Что ты гонишь так, говорю, убьешь ведь! А я, говорит, за тебя не расписывался, только за молоко…
Они слезли с грузовика как раз возле станции, желтого вокзального зданьица, и Митроша, одернув и поправив одежду, тут же повел глазами на то место, где всегда стояла желтая цистерна с пивом и краснолицая бабенка наливала пенящиеся кружки.
– Эх, пивка бы сейчас глохтонуть!
Цистерна стояла на своем месте, но на передней ее части, что открывалась в виде прилавка с фонтанным устройством для мойки кружек, висел большой черный замок. Было еще рано, жизнь в райцентре еще не началась, все было еще заперто: столовая в ряду уличных домов напротив вокзала, хлебный магазинчик, киоск «Союзпечати», почему-то поставленный на пустой площади оторванно от прочих строений, в каком-то сиротстве и одиночестве, и тот продуктовый райкоопторговский ларек, где Митроша покупал закуску, когда навещал Петра Васильевича в больнице.
Идти разыскивать в такой ранний час нужных людей было бесполезно, и, чтобы протянуть время, и еще потому, что Митрошу томила жажда, друзья побрели по булыжному шоссе в центр поселка.
Но и там на всех магазинах и ларьках висели замки, открыта была только закусочная неподалеку от универмага. Собственно, она еще не действовала, положенное ей время тоже еще не наступило, но буфетчица уже возилась внутри – мела веником пол между высокими круглыми столиками на железных ножках.
– Уже прут, уже прут, ну, народ! На ночь не закрывать – и ночью все бы перли, лишь бы насосаться…
Буфетчица с силой, раздраженно ширкнула веником, подкатывая под самые ноги Петру Васильевичу и Митроше мусор из сухих рыбьих голов, хлебных корок, мелкой яичной скорлупы, точно именно они были главными виновниками беспорядка в помещении.
– Валечка, красавица, нельзя сердиться, цвет лица потеряешь, – урезонил ее Митроша, нисколько не конфузясь от неприветливого приема. – Гостям радоваться надо, мы ж тебе товарооборот делаем, план перевыполняем. Ты ведь с нас премии получаешь. А ты вон как – ни ласки, ни привета!
– Все вы у меня вот уже где, алкоголики проклятые! Вам бы все хлестать да хлестать, утро еще не наступило, а вы уже как мухи на сахар…
Петр Васильевич отступил было назад, но Митроша, пошучивая и балагуря, настырно пролез в двери по мусору, что выметала буфетчица, как коротко, знакомый с ней человек, хотя знаком он был с ней не больше, чем все другие, что время от времени заходили сюда выпить кружку пива.
Буфетчица, продолжая браниться, вымела наружу сор, шумно обтрясла о порог веник, со скрипом стала двигать столики по цементному полу, ставя их на прежние места. Похоже, гнев ее не собирался меняться на милость и дожидаться от нее было нечего, но, подвигав тяжелыми столиками и вместе с энергией тела израсходовав в этой работе значительную долю своей раздраженности, она зашла за стойку и, поправляя короткими, пухлыми руками на голове косынку, выбившиеся волосы, – дородная, грузная, с оплывшим, подмазанным красками лицом, точная копия большинства буфетчиц, как будто их где-то подбирают по одному вот такому стандарту, – спросила, тоже недобро, резко, враждебно, не все же в ином уже тоне, своем обычном, какой у нее был принят с посетителями: