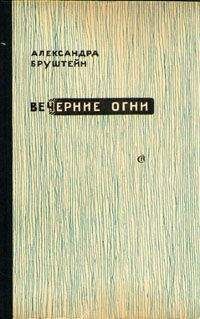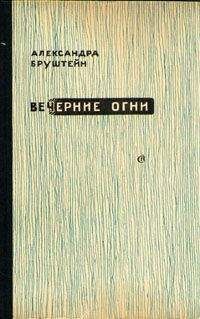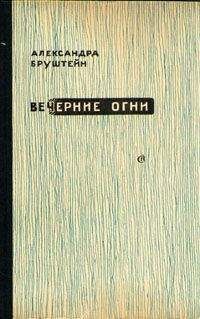Александра Бруштейн - Цветы Шлиссельбурга
«Интересно, как меняется отношение к людям по мере того, как подходишь к ним ближе. Сейчас для меня население 2-го корпуса — серая, забитая масса «шапкоснимателей, и иногда немного неприятно думать, что будешь жить с этими людьми дни и ночи, никогда не оставаясь один. Но я знаю, что стоит лишь поближе рассмотреть каждого отдельно члена этой массы — и это впечатление исчезнет. И уверен, что кроме одиночных, явно отталкивающих лиц (может, таких и не будет) жить с ними будет не худо… Посмотрим, посмотрим!» (дневник — 17 октября 1910 года).
Кстати, это выражение — «Посмотрим, посмотрим!» — встречается у Владимира в его дневниковых записях и письмах нередко. Это само по себе говорит о его душевном состоянии. «Посмотрим, посмотрим!» устремлено в будущее, в нем — интерес, надежда — и, значит, жизнь.
В своих мыслях о людях 2-го корпуса Владимир оказался прав. Многое было трудно в новом каторжном окружении, многое было непривычно, почти отталкивающе.
«А все-таки, — писал Владимир в дневнике 20 декабря 1910 года, — Среда иногда больно бьет своей грубостью. Кое-что из «Мертвого Дома» я только теперь начинаю как следует понимать… Интересно еще вот что: наша «утонченность», уже изобличенная в лживости и слабости, снова приобретает здесь, как контраст, ценность, снова привлекает и вспоминается, как чудная музыка».
Да, среда была для него непривычна и подчас заставляла вспоминать, как чудную музыку, ту «утонченность», которую он сам осудил еще задолго до того. А то, что Владимир, по общему единодушному признанию, стал вскоре любимцем и вожаком всей «каторги», говорит, что он тоже полюбил этих людей, полюбил без брезгливости и чистоплюйства, почувствовав кровное братство с ними.
Все товарищи по заключению, вспоминавшие о Владимире, пишут о той большой роли, какую он сыграл в укреплении и укоренении тюремного обычая так называемой «коммуны», то есть коммунистического распределения продуктов, табаку и пр. среди всех обитателей тюремных камер.
«В камерах, где сидел или даже только появлялся Лихтенштадт, — пишет Н. Билибин в «Истории одного протеста» («Каторга и ссылка», 1925, кн. 18), — обычай «коммуны» распространялся на всех. Мало того: одной из задач, решением которых постоянно занимался Владимир, было — распространить этот коммунистический обычай на всю тюрьму».
Так все вместе — люди и постоянная забота о них, борьба за «коммуну», труды по расширению и сохранению библиотеки, а также непрерывная личная творческая работа — создало для Владимира нечто вроде спасательного пробкового пояса из перспективных линий. Этот пояс помотал ему держаться на поверхности.
Но бывали у Владимира за годы заключения тяжелые срывы, и тогда казалось, вот-вот затянет его в омут безнадежности и апатии и ему уже не выплыть!
В первый раз это случилось в 1913 году, когда, возвращенный обратно в Шлиссельбург из петербургских «Крестов», Владимир уже не застал большинства самых близких своих друзей. Они были отправлены в Орловский централ. Немного времени спустя выбыл из Шлиссельбурга и Ф.Н. Петров: по окончании семилетнего срока заключения его отправили в далекую сибирскую ссылку, в село Манзурку, Верхоленского уезда, Иркутской губернии. Это было для Владимира новой утратой, тяжелой, незаменимой. Круг близких друзей — а на каторге друг означает неизмеримо больше, чем на воле! — все редел и суживался.
Последним звеном в этой цепи расставаний было отправление из Шлиссельбурга в ссылку Г.К. Орджоникидзе. С его отъездом вокруг Владимира не стало больше никого, с кем можно было говорить о самом дорогом и интересном. Теперь не было уже ни Жадановского, ни Петрова, ни Вороницына, ни Ионова, ни обоих Трилиссеров, ни Орджоникидзе.
«Сегодня уехал Орджоникидзе, — писал Владимир в дневнике 3 октября 1915 года. — Какой живой, открытый характер, сколько энергии, отзывчивости на все! И главное — человек все время работает над собой! Только с ним и можно было потолковать серьезно по теоретическим вопросам, побеседовать о прочитанной книге… Это был здесь единственный, у которого можно было поучиться».
О том, что Г.К. Орджоникидзе был человеком неисчерпаемого внутреннего богатства, говорит уже то, что самый его образ еще не до конца раскрыт в появившихся многих воспоминаниях близких к нему людей. Всякий непременно добавляет хоть небольшой, но свой, свежий, новый штрих!
Бывший шлиссельбуржец В. Симонович говорит в своих воспоминаниях о том, что власти, заточая в Шлиссельбург Орджоникидзе, так же как и других кавказцев, имели свой жестокий расчет: эти люди — южане, они не вынесут климата. И в самом деле, по свидетельству того же В. Симоновича, в Шлиссельбургской крепости погибло до 90 процентов всех заключенных-кавказцев. Но ни болезни, ни губительные морозы, ни угроза смерти не могли ослабить Орджоникидзе физически или морально! Общение с Г.К. Орджоникидзе было живительным для других заключенных: в «каменном гробу» Шлиссельбургской крепости он был крепко связан с работой революционеров на воле, с думской фракцией большевиков. От него товарищи по заключению узнавали важнейшие новости: о Пражской конференции, о новых работах В.И. Ленина, о нарастании революционных настроений в России. Обаяние Орджоникидзе шло не только от его начитанности, широкой осведомленности, но в сильнейшей степени и от его характера, неизбывно-радостного и сердечного.
Орджоникидзе был талантлив во всем: в общении с людьми так же, как во всех своих действиях и мыслях. Вдова Г.К. Орджоникидзе, друг всей его жизни, 3.Г. Орджоникидзе, в своей книжке «Путь большевика» приводит одно из его стихотворений. Оно обращено к заключенному в соседней камере, с которым Григорий Константинович перестукивался по условной тюремной азбуке. Стихотворение это, хотя и не притязательное, несомненно, говорит отдельными своими строками, отдельными свежими словами о наличии у «Серго» поэтических способностей.
Друг, мужайся! День настанет, —
В алом блеске солнце встанет,
Синей бурей море грянет,
Волны песню загудят!
Будет весел многоводный
Пир широкий, пир свободный!
Он сметет волной народной
Наш гранитный каземат!
Мы расскажем миру тайны
Долгих лет и долгих мук.
И в садах родной Украины
Вспомнишь ты, сосед случайный,
Наш условный, тихий стук, —
Стук приветный, стук ответный,
Голос азбуки заветной,
Голос камня: «Тук… тук… тук!»
Голос друга: «Здравствуй, друг!»
Отъезд Г.К. Орджоникидзе был для Владимира большой и чувствительной потерей.
Угнетенное состояние, возникшее у него после того, как из Шлиссельбурга выбыли его друзья — ближайшие, лучшие! — усиливалось еще плохим физическим самочувствием. Начиная с 1916 года здоровье Владимира стало резко ухудшаться. Это был уже десятый год непрерывного пребывания в тюрьмах, лишений, протестов, карцеров, голодовок, всего того, чем тюремная жизнь особенно щедра для строптивых и непокорных, не отделяющих себя от товарищей и их борьбы.
Владимир держался долго, стойко, но с этого времени стал, видимо, сдавать и он. Все чаще в его дневниках попадаются такие признания:
…«Здоровье, увы, весьма приблизительно, только держусь».
…«Здоровье плохо, надо лечиться».
…«Сегодня впервые пишу об этом маме, — все равно она видит и еще больше беспокоится».
Это был для Владимира едва ли не самый тяжелый период за все одиннадцать лет тюрьмы и каторги.
И все-таки — все-таки! — он перемог и это. Мрачные записи в его дневниках начинают понемногу перемежаться более светлыми, последние все усиливаются и если не вовсе вытесняют тревожные мотивы, то сильно заглушают их.
Вчитываясь в письма Лихтенштадта и его дневники, мы начинаем понимать, почему так случилось.
Всего сильнее помогал Владимиру, поддерживал в нем стойкую «перспективность» его пристальный, можно сказать, жадный интерес к молодежи, к людям нового революционного поколения. Ведь в 1916–1917 годах, перед революцией, самому Владимиру было уже 37–38 лет. За долгие годы, проведенные им в заключении поднялось на воле «племя младое, незнакомое», и Владимир всматривался в него с напряженной зоркостью.
…«В последнее время, — писал он матери 19 февраля 1917 года (то есть буквально за несколько дней до революции!), — я в великолепном настроении и «всем доволен»: и погодой, и работой, и библиотекой, и сокамерником, в особенности последним! Вот она, молодая Россия, полная сил и веры! Не хватает знаний, не хватает культуры, это так, — но все это можно приобрести, дай только время! Не подумай, что в нем есть что-то особенное. Обыкновенный молодой рабочий, сохранивший резко выраженный ярославский говор, пошехонец, простой в жизни, радостный, — вот и все. Но очень хорошо мы с ним спелись, — а это здесь далеко не последняя вещь».