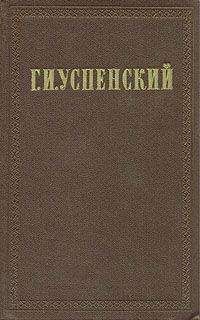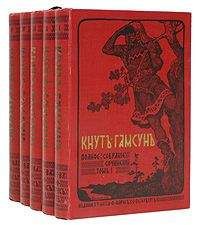Александр Серафимович - Советский военный рассказ
Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:
— Пиши фамилию! Свою!
И Фадейцев повел было «Фа…», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».
Чугреев вырвал бумажку и разгладил.
— Превосходно. Фа… Фарисеев, например, или Фараончиков… Как?
— Напугался, ваше… с испугу… Не фартит мне…
— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе…
Он беспокойно понесся по комнате.
— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело… Вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а…
— Бакушев, ваше сиятельство.
— А? Подожди, не мешай… сейчас припомню. Ты меня узнаешь… В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?
Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.
— Шутить изволите…
Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:
— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков… Одни — мобилизованы, другие — по слабости воли… Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках в глаза, в рот харкнуть! Во-о… я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет… и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю… впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно, — меньше всего я могу добиться у крестьян — они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад… Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить, — обстоятельства же нашей встречи мне ясны…
Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.
— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку… Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?
— Ничего…
— Э, бросьте дурака ломать… в этот вечер я проиграл вам… я…
Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:
— Вы понимаете, понимаете… я… я… забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?
Он свел руки.
— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас… кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам… на другой день я должен был достать деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли… Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.
Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской — тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку — она же пошла с матерью в партер… Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно вспоминается длинная фигура в золоченом мундире… Злость еще хранилась с того времени! Но карты… он никогда не брал в руки карт.
Отодвинул стакан.
— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.
Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точеными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.
Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:
— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога… а теперь в путиловском! В нас много стыда… капитан… на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю, — бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик… Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)… и все-таки он… меня… из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом — посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил… Надо понимать людей, капитан.
Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Словно глаза сползают с лица…
Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.
— Пустите меня, — прошептал он. — Устал.
Чугреев сморщился.
— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии… вы не слышали?..
— Красные сказывали — Щукин.
— Да, «товарищ» Щукин… Но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?
Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.
— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.
Фадейцев сосчитал у себя, — восемь.
— Бог даст, не изловят, — сказал он хрипло.
— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!
— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо Фадейцев. — Кого амба?..
Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.
— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку…
Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:
— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол… огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси… Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?
Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.
— Хватит? — спросил он хвастливо.
Фадейцев больно надавил локтем в стол.
«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают…» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок, — припомнил он адъютанта, — держись…»
Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.
— Греха на душу… пусти, ваше благородье… ваше сиятельство… Бакушев я, хоть все село опроси.
— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш… Ась, два!.. Стой!..
Он взял его под руку и подвел к столу.
— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста… И руки не прячьте… Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите…
— Ваше сиятельство, ей-богу!..
Нога Чугреева тяжело упала на пол.
— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!
В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.
Но Фадейцев молчал.
— Можете ли вы мне говорить прямо?
«Во имя революции — нет», — так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.
Фадейцев же молчал.
Недоумевая, Чугреев отошел от стола.
— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!
Лицо у него было жесткое и суровое.
«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.
Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.
Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день… День прошел — полночь.
Князь опять упрекает:
— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.
Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.
А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.
Усталый, но на что-то надеясь, он говорит:
— Идите… Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу…
Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.
На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.