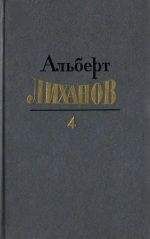Борис Пильняк - Голый год
— Ского уже осень. Нет звезд. Миговая тюгьма — помните? Дай бог вам всякого счастья! Жить!
Юзик помолчал, потом круто повернул лошадь и поехал рысью.
На рассвете Андрей был уже на станции, на «Разъезде Map», протискивался к мешочникам в теплушку. В рассветной серой мути сиротливо плакал ребенок, и томительно, однообразно кричал переутомленно веселый голос:
— Гаврила, крути-и! Крути-и, Гаврю-юшка-а!.. Поезд стоял очень долго, затем медленно тронулся, томительный и грязный, как свинья.
——Так погибла коммуна анархистов в Поречьи.—
— И вот рассказ о том, как погибнуло помещичье Поречье: это было в первые дни революции, в первых кострах революции, с тех пор много уже сгорело костров, и много песен метельных отпели дни, унося людей. Вот рассказ —
Первое умирание —
— Впрочем, разве в революцию умерло мертвое?! Это было в первые дни революции. Вот рассказ.
——Отрывок первый. Это родовое, — Ордыниных, без Попковых.
В окна гостиной долго, сквозь пустой осенний парк, глядело солнце. В пустой осенней тишине над полями кричали «вороньи свадьбы». В этом доме, так казалось, прошла вся жизнь, теперь надо было уезжать, навсегда: сам председатель, Иван Колотуров-Кононов, принес последнее предписание, в кухне уже поселились те, чужие.
Утром встал с синим рассветом, день пришел золотой, ясный, с бездонной, синей небесной твердью, — раньше отцы в такие дни травили борзыми. В полях теперь голо, торчат мертвые ржаные стрелы, должно быть, скулят уже волки. Вчера вечером приколачивали у парадного красную вывеску: — «— Чернореченский Комитет Бедноты —» — и шумели всю ночь в зале, что-то устанавливая. Гостиная стоит еще по-прежнему, в читальной за стеклами блестят еще золоченые корешки книг, — о, книги! ужели избудет яд ваш и сладости ваши?
Утром встал с синим рассветом — князь Андрей Ордынин, младший брат старика, — и ушел в поле, бродил весь день, пил последнее осеннее вино, слушал вороньи свадьбы: в детстве, когда видел этот осенний птичий карнавал, хлопал в ладошки и кричал неистово — «Чур, на мою свадьбу! Чур, на мою свадьбу!» — Никогда никакой свадьбы не было, дни уже подсчитываются, жил для любви, было много любовей, была боль, и есть боль — и пустота, опустошение. Была отрава московской Поварской, книг и женщин, — была грусть осеннего Поречья, всегда жил здесь осенями. Это его мысли. Шел пустыми полями без дорог, в лощинах багряно сгорали осины, сзади под Увеком стоял белый дом, в лиловых купах редеющего парка. Безмерно далеки были дали, синие, хрустальные. Виски поредели и сереют — не остановишь, не вернешь.
В поле повстречался мужик, исконный, всегдашний, с возом мешков, в овчине, — стена молчащая, — снял шапку, остановил клячу, пока проходил — барин.
— Здравствуй, ваше сиятельство! — чмокнул, дернул вожжами, поехал, потом снова остановился, крикнул: — Барин! слышь-суды, сказать хочу!
Вернулся. Лицо мужика все заросло волосами, в морщинах, — старик.
— Что же теперь делать будешь, барин?
— Трудно сказать!
— Уйдешь когда? Хлеб отбирают — бедные комитеты. Ни спичек, ни манухфактуры, — лучину жгу!.. Хлеб не велят продавать, — слышь-суды, — тайком на станцию везу! Из Москвы наехало — ии!.. Тридцать пять — триидцать пять!.. Да што на их укупишь? Одначе весело, все-таки, очень весело!.. Закури, барин.
Никогда не курил махорки, — свернул цыгарку. Кругом степь, никто не увидит, кажется, что мужик жалеет, и хочется жалости. Попрощался за руку, повернулся круто, пошел домой. В парке в пруду вода была зеркальная, синяя, — вода в пруду всегда была холодной, прозрачной, как стекло: еще не время замерзнуть окончательно. Солнце уже переместилось к западу.
Прошел в кабинет, сел к столу, открыл ящики с письмами — вся жизнь, не увезешь с собою. Вытряхнул ящики на стол, пошел в гостиную к камину. На столе для альбомов стояла крынка молока, хлеб. Зажег камин, жег бумаги, стоял около и пил молоко, ел хлеб — проголодался за день. Уже входили в комнату синие вечерние тени, за окнами стал лиловый туман. Камин горел палево, молоко было несвежим, хлеб зачерствел.
В тишине коридора забоцали сапоги. Вошел Иван Колотуров, председатель, в шинели, с револьвером у пояса, — Иван Колотуров-Кононов: — вместе играли мальчишками, потом был рассудительным мужиком, хозяйственным, работным. Молча передал бумагу, стал среди комнаты.
В бумаге было наремингтонено:
«Помещику Ордынину. Чернорецкий Комитет Бедноты немедленно предписывает покинуть присутствием советское имение Поречье и пределы уезда. Председатель Ив. Колотуров».
— Что же, сегодня вечером уеду.
— Лошади вам не будет.
— Пойду пешком.
— Как знаете! Вещей никаких не брать! — повернулся, постоял спиною в раздумьи минуту и ушел.
Как раз в это время пробили часы три четверти, — часы работы Кувалдина, мастера восемнадцатого века, они были в кремлевском дворце в Москве, потом путешествовали с князьями Вадковскими по Кавказу, — сколько раз они сделали свое «тик-так», чтобы унести два столетия? — Сел у окна, глядел в поредевший парк, сидел неподвижно с час, опираясь локтями о мраморный подоконник, думал, вспоминал. Раздумье прервал Колотуров, — вошел молча с двумя парнями, прошли в кабинет, молча силились поднять письменный стол, треснуло что-то.
Встал, заспешил. Надел широкое свое английское пальто, фетровую шляпу, вышел через террасу, прошел по шуршащим листьям экономией, мимо конного двора, винокуренного завода, спустился в балку, поднялся на другой ее край, к Николе, устал и решил, что надо идти не спеша— идти тридцать верст, первый раз идти здесь пешком. Как, в сущности, просто все, — так думал, — и — и страшно лишь простотою своею!
Солнце уже ушло за землю, багряно горел запад. Пролетела последняя воронья свадьба, и стала степная осенняя тишина. Мрак подходил быстро, сплошной, черный. В небесной тверди загорались звезды. Шел бодро, ровно, пустынным степным проселком. Первый раз в жизни шел так легко, без всего, неизвестно куда и зачем. Где-то очень далеко на сектантских хуторах лаяли собаки. Стали тьма и ночь, осенняя, безмолвная, в твердом морозце.
Двенадцать верст прошел бодро, незаметно, а потом остановился на минуту — перевязать шнурок у ботинок — и вдруг почувствовал безмерную усталость, заломило ноги — за день избродил уже верст сорок. Впереди лежало село Махмытка, — в юности, студентом, ездил сюда, к солдатке, тайком, — теперь не пойдет к ней — никогда, ни за что, раба! Деревня лежала приплюснутая к земле, заваленная огромными скирдами соломы, пахнущая хлебом и навозом. Встретили лаем собаки, темными шарами выкатились за околицу, к ногам, целая стая.
Прошел мордовский поселок и на русской стороне постучал в окошко, в первую избу, за окном горела-тлела лучина. Отозвались не скоро.
— Хто тама?
— Пустите, люди добрые, ночевать.
— А хто такой?
— Прохожий.
— Ну, сичас.
Вышел мужик, в розовых портах, босиком, с лучиною, осветил, осмотрел.
— Хнязь? Ваше сиятельство! Домудровалси?.. Иди, што ли!
На полу настлали соломы, огромную вязанку, трещал сверчок, пахло копотью и навозом.
— Ложись, хнязь. Спи с богом!
Мужик влез на печку, вздохнул, что-то зашептала баба, буркнул мужик, потом сказал громко:
— Хнязь! Ты спи, а утром уходи до света, чтобы не видали. Сам знаешь, время смутная, а ты — барин. Баринов кончать надо!
Трещал сверчок. В углу хрюкали поросята. Лег, не раздеваясь, шляпу положил под голову, сейчас же поймал на шее таракана. В глухой степи, засыпанная хлебом, соломенная, в соломенных скирдах, с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята и свиньи, — лежал на соломе князь Ордынин (теперь уже мертвец!), ворочался от блох и думал о том, что сейчас в смрадном тепле, изнеможденный — он испытывает истинное счастье. Подошел поросенок, обнюхал и ушел. В окно смотрела низкая, ясная звезда, — бесконечен мир! Пели на деревне песни.
Как заснул, — не заметил. На рассвете разбудила баба, вывела на зады. Рассвет был синий, холодный, на траву сел сизый заморозок. Пошел быстро, размахивая тростью, с поднятым воротником пальто. Небо было удивительно глубоким и синим, на станции «Разъезд Map» вместе с мешочниками и мешками с мукою князь втиснулся в теплушку, и там, прижатый к стене, измазанный белой мукой, — поехал…
Отрывок второй.
Иван Колотуров, председатель, двадцать лет ковырял свои две души, поднимался всегда до зари и делал — копал, бороновал, молотил, стругал, чинил, — делал своими руками, огромными, негнущимися, корявыми. Поднявшись утром, заправлялся картошкой и хлебом и шел из избы, чтобы делать что-либо с деревом, камнем, железом, землею, скотом. Был он работящ, честен, рассудителен. Еще в пятом году (ехал со станции, подсадил человека в мастерской куртке) рассказали ему, что перед богом все равны, что земля — ихняя, мужицкая, что помещики землю украли, что придет время, когда надо будет взяться за дело. Иван Колотуров плохо понял, что надо будет делать, но когда пришла революция, докатилась до степи, — он первый поднялся, чтобы — делать. И почуял тоску. Он хотел делать все честно, он умел делать только руками — копать, пахать, чинить. Его избрали в волостной комитет, — он привык вставать до зари и сейчас же приступать к работе, — теперь до десяти он должен был ничего не делать, в десять он шел в комитет, где с величайшим трудом подписывал бумаги, — но это не было делом: бумаги присылались и отсылались без его воли, он их не понимал, он только подписывал. Он хотел делать. Весной он ушел домой пахать. Осенью его выбрали председателем бедного комитета, он поселился в княжеской экономии, надел братнину солдатскую шинель, подпоясался револьвером.