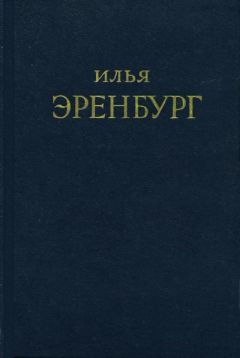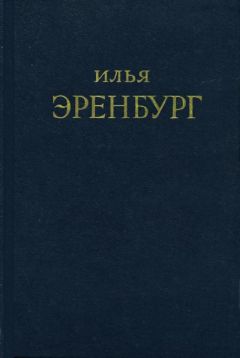Илья Эренбург - Трест Д.Е. История гибели Европы
Прекрасная синьора, Лючия Джоргто, умиляла его своей верностью. Синьоре Лючии было двадцать два года, и, несмотря на красоту, молодость ее прошла печально. Восемнадцати лет она вышла замуж за настройщика роялей Пьетро Джорно. Все сулило счастье молодым супругам, страстно друг друга любившим. Но через неделю после свадьбы Пьетро был мобилизован и отправлен в Триполи. Четыре года Пьетро воевал. Четыре года Лючия ждала его. Она страшно бедствовала и добывала себе хлеб тем, что пыпшнала подвязки для богатых дам. Семь дней счастья, четыре года разлуки — так сложилась ее жизнь. По педелю тому назад она получила открытку из Бриндизи. Пьетро извещал Лючию, что получил отпуск и едет в Рим. Остановится он в пустующей комнате брата на виа Кавур. Лючия вышивала подвязки не только семь дней, но и семь ночей, чтобы заработать деньги на билет до Рима. Но теперь она волновалась: виа Кавур, кажется, находится далеко от вокзала, у нее нет даже пятидесяти лир на трамвай. Как быть с корзинкой?
Енс Боот, разуверившийся в своей любви, умел чтить чужую. Он взволнованно вытер глаза платком и предложил синьоре Лючии довезти ее до виа Кавур, где ждет супругу нетерпеливый супруг.
Оставшееся время Енс Боот провел в беседе с почтенным пассажиром. О случайности путевых встреч писалось немало. По велико было удивление Енса, когда он узнал, что этот скромный господин с серебряными прядями волос, получивший от Лючии маковый коржик и скушавший его не без удовольствия, является Франческо Бари — выдающимся философом Европы последнего десятилетия.
Енс Боот, правда, никогда не читал книг, тем паче философских, но ему приходилось проглядывать ежедневно груды газет, и там он часто встречал это имя. Великий философ в 1931 году выпустил книгу «Прехождение и существо», в которой с гениальной прозорливостью анализировал процесс отмирания Европы и все мыслимые трансформации ее бытия.
Беседуя с Енсом Боотом, Франческо Бари невольно затронул свою любимую тему. Он начал говорить о конце Европы. Это не было ни политическим обзором, пи моральной ламентацией: философ говорил о жизни и о смерти, о черном зерне, зеленом ростке и о пышной розе. Казалось, он еще чувствовал на кончиках пальцев ее тяжелый густой аромат — полдневный зной флорентийского Возрождения. Франческо Бари никого не упрекал и ни с кем не спорил. Это являлось простой биографией, но биографией, рассказанной влюбленным: каждая родинка в ней становилась мифом.
Капля воска на плече дремлющего Эроса. В сырой синеве катакомб каменное яйцо. Протяжное «мопжуа» полосатых угрюмых людей, умещавших костями великие дороги Европы. В темном кабачке, где дружно пьянствовали палач, выворачивавший на дыбе суставы, и богомольный вор, — внезапный шепот. Роза Роз, Маргаритка Маргариток. Аминь. Взрыв света. Спасайтесь, мир затоплен солнцем! Полнота и строгая печаль от готовальни, где циркуль и число, от розы, от двух, костей и черепа, от мрамора, от света. Дикая птица Леонардо. Вежливая пустота и неприятности Кандида. Рык карманьолы. Парик на пике. Желтое облако пороха и прочие театральные эффекты корсиканца. Прогресс. Комфорт. Пустота, но уже без вежливости. Костыль. И последние прыжки. На Пер-Лашез, среди бисерных венков и рыжей крови: «Се ла лютт финаль…» Финал, впрочем, иной.
Обо всем этом говорил Франческо Бари. Енс Боот слушал его, явно взволнованный, ведь он слушал повесть о высоких и горьких днях своей возлюбленной.
Цветенье и смерть Европы сливались с его горем. Когда Франческо Бари сказал об эпохе Лоренцо: «Это было как бы остановкой в зените бытия. Серебряные вожжи выпали из рук возницы. Казалось, что рыжегривыо коми, вскинув копыта, уже никогда их не опустят…» — Енс вздрогнул. Неужели это было в XV веке, а не в 1914 году? Во Флоренции, а не в «Ти-стар».
Незабвенная Люси!
А когда Фраическо Бари грустно усмехнулся: «И вот агония. Тупая жадность какого-то Брандево. Больше никто, даже для этикета, не твердит о «великих принципах права». Все ясно…» — Енс Боот прервал его непонятным восклицанием:
— Это перекись! Это просто плохая перекись!
Енс Боот замолк. Другие еще говорили о баснословной чи-ките, о Джиованни Ботто, о погоде. Енс молчал и думал:
«Почему я не в силах забыть всего? Почему я должен хранить эти нежные виденья? Мне хочется плакать. Мне не хочется жить. Мертвая любовь. Мертвая Европа. В грязном, темном вагоне никому не нужный пассажир».
Наконец показался Рим. И Енс Боот впервые понял, что этот город, столь хорошо ему знакомый, не что иное, как каменная память, страшное проклятье людей.
Эти строения были не просто строениями, но окостеневшим временем. Здесь года не расплывались в легком эфире, они оставались, чтобы мраморной или гранитной пятой давить задыхающуюся землю. В ночи стоял гигантский скелет, и каждый позвонок его напоминал о речах Франческо Бари.
Злой рок привел Енса Боота, жаждавшего забвенья, именно в Рим. Но делать было нечего: дверь купе раскрылась, и расстроенный Енс вышел на платформу, не забыв, однако, о корзине синьоры Лючии.
Попутчики расстались трогательно. Франческо Бари пригласил Енса зайти как-нибудь к нему побеседовать на досуге все о том же, то есть о диковинной судьбе Европы.
Енс Боот повез, как он обещал, синьору Лючию на виа Капур. В большом семиэтажном доме они долго разыскивали комнату синьора Джорно. Наконец какой-то мальчик показал темную винтовую лестницу.
— Здесь, на самом верху. Третья дверь.
— Синьор Джорно? — спросил Енс Боот, когда на звонок показалось чье-то бледное, изможденное лицо.
— Я. Что угодно?
Но здесь Лючия, оттолкнув Енса, кинулась к двери.
— Пьетро! Ты! Любовь моя!
— Простите, вы ошиблись.
— Пьетро! Ты меня не узнаешь! Санта Мария! Что с Гобой?
Думая, что счастливой встрече супругов препятствует темнота, Енс Боот зажег электрический фонарик, всегда предусмотрительно хранившийся в его кармане. Яркий свет облил потрясенную женщину.
— Пьетро! Теперь ты узнаешь меня? Нет? Господи, ты ослеп?
— Ослеп? Порка мадонна! Вздор какой! Я великолепно вижу вас. Но вы, вероятно, ошиблись дверью. По крайней мере я вас не знаю.
— Что с тобой, Пьетро? Я ведь не так изменилась. Ну посмотри на меня!
Со слезами бедная Лючия припала к своему супругу и стала целовать его.
— Пьетро, мальчик мой! Ну поцелуй твою бедную девочку!.. Я так ждала тебя.
Енс Боот стыдливо погасил фонарь. Пьетро ворчал:
— Какие нахальные девки пошли. Врываются в квартиру, и никаких…
— Пьетро! Я умру! Пьетро!
После минуты раздумья Пьетро сказал:
— А впрочем, ты девочка того… расторопная. Хочешь — заходи. Но я ведь солдат, в отпуску, больше пятисот не получишь.
Дверь закрылась. Енс Боот остался с корзиной. Вспомнив беседу попутчиков и больное, измученное лицо Пьетро Джор-но, он стал догадываться о значении происшедшего.
Поставив корзину у двери, Енс Боот закурил сигарету и стал медленно спускаться. Когда он уже был внизу, до него донесся женский плач и грубый голос:
— Будет! Получай деньги и проваливай!
Минуту спустя что-то мелькнуло в темном пролете лестницы. На дне дома лежал труп разбившейся Лючин. Люди перекликались:
— Что там?
— Девка вниз бросилась. Верно, спьяна.
— Уж не чикита ли? Потом все смолкло.
Бедная синьора Лючия Джорпо, вышивая подвязки, она ровно четыре года ждала этой минуты!
Енс о многом догадывался, угрюмый, он брел по темным улицам. А навстречу ему мчался дикий трамвай. Бледное лицо вагоновожатого выражало недоумение. Пассажиров и кондуктора не было, они успели спрыгнуть на ходу. Только на задней площадке стояла женщина с грудным младенцем и отчаянно вопила. Трамвай несся уже час по тихим улицам, по пустым путям. Было 2 часа ночи, и других трамваев не было.
Редкие прохожие усмехались:
— Трамвай взбесился.
— Никита?
Женщина все еще вопила. В 3 часа ночи трамвай, подпрыгнув, замер где-то на окраине. Вагоновожатый сошел вниз и рассеянно зевнул: поздно, пора спать. Женщина молчала. Кричал теперь ребенок, тщетно чуть прорезавшимися зубками въедаясь в холодную, мертвую грудь.
На следующее утро Енс Боот увидел странное зрелище. В центре Рима, на пьяцца Венеция стоял корректный господин с ленточкой в петлице. Растерянно оглядывая близорукими глазами прохожих, он приподнимал свой котелок и спрашивал:
— Простите, синьор, будьте столь любезны, разъясните мне, где я и кто я?
Вместо отпета прохожие неслись прочь с шепотом:
— Никита! Никита!
Площадь мигом опустела. Два полицейских подошли, чтобы узнать в чем дело, но, услышав вопрос господина, забыли о своей службе и расплакались.
Енс Боот не убежал с пьяцца Венеция. Он долго стоял рядом с корректным господином. Не милосердие удерживало его, нет, зависть.
— Если б, как он!.. Люси… Европа… проклятый Рим!.. Вокруг Колизея цвели курослеиы и мяукали кошки. Навстречу Енсу неслись газетчики, выкрикивая: