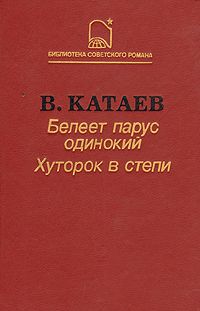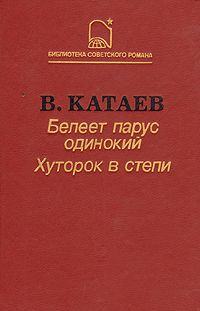Алесь Адамович - Каратели
Крупнокалиберный снова ударил в сторону леса – вот бы залепил, залепить бы по дураку в папахе, что носится на белой лошади! Поль метнулся от водителя к пулеметчику, долбит по каске своим пистолетиком. И вот уже на Белого орет: так-разэтак вас, варум нихт арбайтен, почему-распочему?..
А водитель уже развернул свой гроб позади взвода, и Поль теперь как бы гнал взвод Белого впереди себя к сараю. У Поля глаза навыкате – фюрерские, в придачу и усики себе завел фюрерские, а при его широкой красной физиономии и коротком теле фюрер получился совершенно как мясник!
Возле длинного, с провисающей соломенной крышей сарая несколько немцев и мельниченковцев стоят у подпертых задним бортом машины ворот: видимо, когда люди бросились бежать, тех, кого все же загнали в сарай, заперли таким вот способом. А один щенок стоит среди двора и палит из винтовки в поле – туда, где немцы и мельниченковцы, пьяно пошатываясь, бродят среди разбросанных по всему полю тел и стреляют в землю, добивают. Белый выхватил из-за пояса длинную гранату-колотушку и с удовольствием огрел мельниченковца по потной голове:
– Куда стреляешь, падло? Куда, спрашиваю?
Сарай с подпертыми воротами молчит, запертым людям хочется надеяться, что о них забыли, и они молчат. Только несколько плачущих детских голосов доносится из-за стен.
Немец-шофер подает из кузова бронетранспортера канистру с бензином, а Поль, бешено выкатывая фюрерские глаза, показывает, чтобы кто-нибудь из солдат Белого принял ее и облил стены. Пьяные мельниченковцы ничего не видят, не соображают, а взвод Белого тоже не приучен за других стараться. Ждут, гады, чтобы приказал шарфюрер! Там, на поле, не ждали, настрелялись в охотку. Но они сильно недолюбливают мельниченковцев, от которых лишь недавно отделились, и никто не спешит опередить бандеровцев, подменить, работать за них. Должен Белый приказать, чтобы приняли канистру и облили стены сарая, в котором заперты люди. На него смотрят. И Суров тоже. Вот и еще одна Каспля, которую Белому брать на себя. Поль, тараща глаза, размахивая пистолетиком, фюрерским криком перебирает все «мать-перемать», какие только знает, помнит.
– Суров! – назвал Белый. Голос его (сам услышал) прозвучал коротким выстрелом. – Суров! – повторил, как нашел, обрадованно. И все, и конец! Давно всему конец. Да, да, ты! Не смотри, точно ослышался или оглох. Кажется, другого Сурова здесь нет!.. – Я, кажется, ясно приказал? Чего ждешь?!
С радостной злостью глядел на золотые стекла. На посеревшем лице растеклись близорукие, но разглядевшие что-то ужасное, последнее глаза Сурова. Да, да, ты не ослышался – я приказал! Не обознался – это я, Белый, перед тобой! Вот твоя Каспля, Суров. Ну, решай. Теперь ты. В кого выстрелишь прежде: в Поля, в меня? Решай порасторопнее, а то Поль лопнет скоро от крика и гнева или сам пальнет из пистолетика.
– Действуй, Суров, ручками, ножками!
В лицо краска, кровь вернулась, просто видишь, как перекачивается она по нему: из головы в ноги, из ног в руки – давай качай, решай давай, Суров! Твоя Каспля подступила. В руках оружие у тебя. Сделай; если сможешь, и за меня. Чего я не смог. Только куда тебе – с такими-то глазами, с лицом таким!..
Поль уже сосредоточил свое пьяное внимание на Сурове: на него орет, в него тычет парабеллумом. Но разлившиеся за вспотевшими стеклами суровские глаза ничего не видят, не слышат, а только Белого. Кажется, оглушен человек, заранее оглушен тем, что он сейчас сделает, – и потому делает.
Цепко схватил канистру, будто век шофером работал и точно в ней все спасение его. Но сначала поставил ее на траву, чтобы закинуть за спину винтовку. Не нужна Сурову винтовка, мешает. То-то же, такие мы, мой дорогой поп! Еще раз, последний раз на Белого глянул. И схватил канистру.
Прогнутая собственной тяжестью длинная соломенная крыша, сухие бревенчатые стены, подпертые машиной ворота прячут и удерживают тех, кому гореть. Они там смотрят в щели и уже увидели человека, бегущего с канистрой, – крик навстречу Сурову, женский, детский ужас! Плеснул на сухие бревна, и они сразу сделались черными, точно обуглились. Но бензин упал и на зеленое шинельное сукно, зачернил и его, потек по сапогам Сурова. Вот что значит без практики! Вытягивая руки, чтобы не обливаться, не измазаться, Суров побежал вдоль стены воющего сарая и все плескал на бревна, а за ним оставалась неровная, расползающаяся чернота. Она вместе с запахом бензина вползла и в сарай, потому что оттуда уже несется крик страшный, стучат, ломятся в подпертые ворота. Немец соскочил с бронетранспортера и побежал к сараю, на ходу щелкая зажигалкой. Наклонился к стенке и сразу отпрянул: бесцветное пламя нежно блеснуло и как бы пропало, но тут же рванулось вслед за Суровым. Как бы выследив, молнией метнулось к нему, поливавшему остатками бензина угол сарая. Он уронил канистру. Белому показалось, что из рукавов, из-под полы суровской шинели вырвалась, затрепетала красная тряпка. Суров побежал по полю и все пытается оторвать ее, отбросить. Машина, подпиравшая ворота, отъехала, крупнокалиберный пулемет, автоматы и винтовки бьют по сараю, пронизывая и ощипывая стены, заглушая и покрывая все…
ПОСЕЛОК ЧЕТВЕРТЫЙ
Из показаний Тупиги И. Е. в 1960 году:
«Мельниченко Иван Дмитриевич командовал ротой, ее называли у нас „украинской“. Командиром роты был немец Поль, но назывались „мельниченковцы“. А Мельниченко откуда-то из-под Киева, он грамотный был, он и раньше лейтенантом был. Черный, как цыган. В общем пустой человек, с коня не слезал и вечно пьяный. И все мельниченковцы такие, вот и в Нивках – сразу кинулись по сундукам да погребам. Мы бы всех партизан припутали, если бы не эти мародеры. Один Мелешка молодец, не растерялся, установил пулемет и… Я про то, что никакой дисциплины, одна самогонка и грабеж. Потом, в конце войны, он и еще сколько-то убежали в лес…»
* * *… Пьяный, «как Поль», Мельниченко носился по огородам, среди побитых, пострелянных его ротой жителей. «Диты мои! Соколики!» – фразы, обрывки из какого-то кино, или песни, или самим придуманные копошились в памяти, на языке. Он – батька, атаман на коне-звере, а кругом басурмане, и он кличет свое войско на геройство и смерть. А сам с поднятой плетью налетает на своих мельниченковцев, замахивается в воинственном гневе, но при этом помнит, что и «майстэры» бродят по полю и заняты тем же – пристреливают, и что даже командир, если он не немец, не имеет права их пальцем тронуть. Зато своих достает плетью с удовольствием: «Не журись, казачура!», а они удивленно охают, скалятся, как улыбающиеся волки, и выкрикивают что-то вслед. А он все кличет: «Диты! Соколики! Мельниченко завжды с вами!»
Конь под ним – картинка, дорогой конь. («Сволочь, Циммерманн, такой годинник, золотой весь, увез в свою Германию!») Но этот зверь прежде носил на себе партизана – Мельниченко не забыл, не простил. Хлещет его плетью со смаком.
– Вовче мясо, ты у меня потанцуешь! Бандюга!
Лупит, сечет плетью коня, достает и своих пьянчуг, носится меж трупов (бабы и дети больше кучками лежат, они будто сползаются друг к дружке), конь всей кожей дергается, ногами перебирает по воздуху, оттого что вот-вот наступит на тело, бросает желтую пену, дико косит глазом.
– Ах ты, банда, будешь як миленький! Я навчу под Мельниченко ходиты! Узнаете, кто такой Мельниченко!
Даже штурмфюрер Муравьев не был в Германии, а Иван Мельниченко был, посылали. Поль брал его в Фатерлянд – показать немцам-родителям своего спасителя: не окажись его тогда рядом, уволокли бы Поля, как барана, бандиты.
Да, было что порассказать, когда вернулись из Германии. Хотя бы про Лейпциг, немецкий город. Оказывается, это немцы Наполеона разгромили, а не под Москвой. И тут набрехали москали. Есть памятник в Лейпциге – специально по этому случаю. Каменная громадина, похожая на домну. Зенитки наверху кажутся спичками – такая высота. И как раз начали палить по американцам, плавающим над тучами. Эхо, как в громадной бочке, перекатывалось. Ревела каменная домна, как медведь.
Мельниченко спас немецкого офицера, и семья захотела повидать, поблагодарить его. Этот Поль мало на немца похож. Того и гляди влипнет спьяна куда-нибудь. На минутку отвернулся и не понимает: куда Поль девался? Сани деревенские удаляются, дядька в желтом кожухе нахлестывает коня, оглядывается, злодюга, а на санях кто-то ногами по воздуху бьет… Мельниченко стал палить из автомата, побежал, крича, следом: бандит и столкнул Поля, отпустил. А Муравьев по-своему перевернул: шатаются, мол, пьяненькие неизвестно где, сами падают в чужие сани. И пошли всякие анекдоты: дескать, бросило в сторону по льду полозья и стукнуло Поля под коленки, он и завалился, а дядька гнал коня с перепугу, пока не потерял немца. Муравьев в кутузку засадил Мельниченко. На Поля, на немца, руки коротки, так он – Мельниченко. Вот была физиономия у Муравьева, когда пришло письмо от родителей Поля с просьбой разрешить их сыну привезти в отпуск «того русского, который, жертвуя жизнью, спас германского солдата», их единственного сына. Вот так-то, штурмфюрер Муравьев-Хильченко! Приклеил к кацапской фамилии какого-то «Хильченко» и считает, что теперь ему можно командовать и «украинской» ротой. А немцы никак его не раскусят. Мельниченко уже сражался с бандами, когда этот «штурмфюрер» в Бобруйском лагере вшей кормил, еще и сам не догадывался, не помнил, что он – «Хильченко». А Мельниченко в числе первых пошел против Советов, жидов и москалей. Знал Бандеру, знал Войновского, был в Косове, когда они только начинали формировать первую «украинскую дивизию». Правда, далеко это не пошло – с дивизиями. Немцы вдруг увезли руководителей в Берлин, а дивизию раскрошили на роты, взводы и разбросали кого куда. Взвод Мельниченко попал в Белоруссию, его нарастили до роты, – это когда уже появился Дирлевангер. Ядро – «галицийцы», а еще два взвода из военнопленных – «восточники». «Западники» тверже, идейнее, послушнее, но темные, как бутылка пивная, многие и расписаться не умеют. Со своими, с «восточниками», больше мороки и всяких неприятностей (с Горбатого моста эти сбежали!), но зато они не святоши и не куркули. Те дисциплинированнее: навытяжку и глазами ест. Но готовы слопать и взаправду. На рожах написано: «Все вы тут – москали, бога продали!» И попа, еще косовского, таскают за собой везде. Хоть бы бандиты его утащили, как Поля пытались. Окрестили Мельниченко с его конем «Суворовым» – знают, куркули, чем позлить!