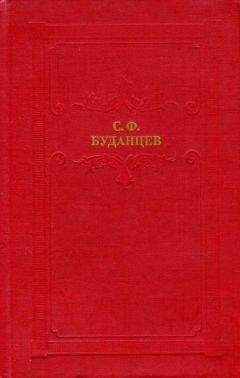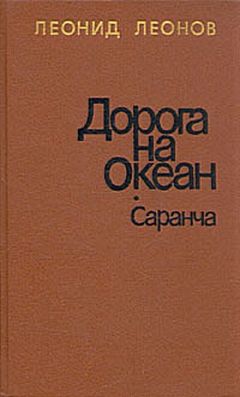Сергей Буданцев - Саранча
В тот день Крейслер сам присутствовал при раздаче пайка в темном кирпичном сарае с запахом прелой муки и мышей. Пан Вильский и двое заводских рабочих вешали хлеб, на каждой буханке ставили мелом цифру, беженцы делили сами.
На этот раз делегатов пришло больше, с ними увязались долговязые изможденные ребятишки, все они мялись у дверей, беспокойно озираясь и принюхиваясь к раздражающему хлебному духу. Старик суетливо бегал вокруг весов, приговаривая: «Нашей партии за два дни должны, за два дни. По три четверки должны, — два пуда семнадцать фунтов, да два пуда осьмнадцать с половиной». Михаил Михайлович слушал и все никак не мог собраться с силой сказать, что с завтрашнего дня будут выдавать по полфунту, а в пятницу — мусульманское воскресенье, на работу вовсе не выходить.
Маракушея оторопел, спросил как спросонья: «Чевой-то?» — потом внезапно закричал:
— Как же это так? Нешто это по закону по пролетарскому, сбавлять плату? Братцы, договорились ведь!
От крика Крейслер пожесточел, почувствовал твердую сухость в теле.
— Делать нечего, дед, это временно. У нас как военное положение.
— Да мы нешто временно выживем! Отощали.
Мужики враз засмеялись безнадежно и враждебно, вышли кучей из амбара посовещаться, старик потрусил за ними и там, у огромной трубы, висевшей через весь двор (по ней пневматически шел хлопок в очистку), загалдели. Мужики кричали, что это — «хуже быть не может, заставлять работать да не кормить!». Пятница перемежалась с матюками. По двору пробежали белоголовые ребята пана Вильского, в его окне зашевелилась занавеска, высунулось круглое лицо Марьи Ивановны, Крейслер покусывал губы, примешивая боль к соединению мучительной жалости и раздражения против бестолковых и надоедливых, но голодных и измученных оборванцев. Хлестнул чей-то выкрик: «Вон он, заведующий-то, наел рыло!» Он подскочил к дверям и с порога (голос у него со злобы оказался глухой и короткий) закричал в свою очередь:
— Вы там поменьше насчет моего рыла!
Те притихли сразу, отворачивались, урчали:
— Мы про себя. Тоже имеем право говорить!
— Ну, молчать! — самозабвенно завопил Крейслер, и сердце забилось у него где-то под левым углом челюсти.
Багровая мгла клубилась, застилала весь двор, весь мир. Неразрешимая натуга налила жилы и мускулы. Пальцы распухли, затяжелели. Еще одна волна этого томления, и он бросился бы на жалкого старика.
Озорник, сын Маракушева, прислонившись к стене, как будто прятался от заката в тень, одиноко покуривал и глядел на Михаила Михайловича с брезгливым недоумением.
— Вася, — негромко позвал он.
Молодой мужик, безбровый и подслеповатый, проворно повернулся, сощурился, привычно ждал словно приказания.
— Ты нынче-к с женой чуть гнездо не провалил. Смотри-ка, она у тебя яйца нести будет!
Ляпнул Маракушев это ни к селу ни к городу, и сам не усмехнулся. Мужики растерянно примолкли. Но Вася так смешно зажмурился и съежился и так покорно ждал хохота, что все действительно захохотали, а насмешник, язвительно плюнув через губу, повел глазами на Крейслера. Тому же щекотал усами ухо всполошенный Вильский, нашептывая:
— Скажите что-нибудь, Михаил Михайлович. Ведь это же порох. Их одним словом можно повернуть куда угодно. От того не будет доброго, связались мы с ними.
Михаил Михайлович послушно, уже стыдясь давешнего приступа ненависти к жалким этим людям, сказал, что, много через три дня, приедет целая экспедиция с ядами, аппаратами, с продовольствием, что мобилизация населения пойдет бодрее и что он сможет выдать тогда все, что задолжал теперь, хоть хлебом, хоть — по расчету — сахаром. Детский свет пробежал по серым пыльным лицам с черными углами у губ и у глаз. Маракушев-старик подхихикнул и отозвался:
— За хлеб-то спасибо, а за сахарок-то втрое!
И все они, и мужики, и долговязые тонкокостные ребята неопределенного возраста, принялись нагружаться отвешенным хлебом, опять унылые, но уже безответные. Маракушев-младший взял оставшуюся буханку и сказал, глядя прямо перед собой, в открытую дверь, где в вечерних сумерках, за стеной и домами заводской усадьбы, зеленела растревоженная Степь:
— Мы-то маемся. Смотри, заведующий! Коли какая явная неправда будет, нас тут в вашей округе, беженцев, триста человек одних мужиков.
Они поплелись гуськом. Нетяжелый груз сгибал хилые спины. Крейслер вышел вслед за ними. Чуть похолодевший воздух кишел мошкарой, бодро вившейся над людьми, забиваясь в уши, в ноздри, в рот. Закат играл на проломе ворот, и в них, как будто из другой жизни, появился всадник на гнедом иноходце, сияя кубанкой и черкеской. Но бока лошади чернели в поту, грива сбилась в беспорядке; и у Эффендиева был беспокойный взгляд.
— Новое дело! — сказал он тихо. — Получил сведения, что перегружаются наши центровики с парохода в вагоны. Да, говорят, не то груз подмочили, не то еще того хуже. Я запросил телеграфом..
Крейслер ответил:
— Зверею я. Самому противно.
IV«Я действительно не знаю, как жить там, в городах, истощенных революцией. Таня права. Но я не чувствую вражды к тому, что там делается. Я везде не ко двору. Белогвардейские власти Энзели-Тегеранской дороги шпыняли меня как красного, здесь я бесцветен. В Евангелии ни холодным, ни горячим обещают геенну. Ho ведь это же неправда! Я горячий, а не теплый! Но кажется, что меня заставляют работать на отработанном паре: я еще не успел понять, почему мне было плохо в Персии. Вот оно, тевтонское тяжкодумие! Я знаю одно: вместе с войной кончилось и то распутство, в котором я участвовал с четырнадцатого года. Я едва не заглушил всего себя соучастием в убийствах, пьянством, развратом, картежной игрой. Я пошел на войну, в русский Земсоюз, потому что действительно не чувствовал себя немцем и хотел спасти отца от репрессий царского правительства. Но почел себя вправе вести молодецкий земгусарский образ жизни. Он меня ассимилировал в среде драгунских прапорщиков и казачьих хорунжих, куда я попал, — это стоило жизни моему отцу. Он умер потому, что не мог понять своим колонистским воображением, куда, в какую пропасть я спустил все, что мне дала семья: характер, волю к работе, спокойную выдержку, наконец, деньги. Я разорял не меньше, чем закрытие хлебных портов. И, — полувоин, русак, рубаха-парень, — с упорством идиота вживался в мертвую жизнь, в безделье и пошлость. И какие потрясения, и личные и народные, понадобились, чтобы отрезвить меня».
На другом листке:
«Самым своим бытием во многом меня убеждает и многому учит Эффендиев.
Он не глуп, но некультурен,
просто малограмотен.
И вместе с тем не делает глупостей,
гнет правильно свою линию,
так мало совершает ошибок,
что его можно назвать безошибочным.
Он — сила, как силой является и рука человека.
Но он не сам по себе сила, он — орудие силы.
Кто же настоящая сила?
Она есть. Я хотел бы быть на ее стороне.
В самом деле, раз нет Деникина, его заменяет… Бухбиндер!
Он хочет сделать себе новое богатство и готов вести настоящую войну (скрыто, конечно)…
А я его ненавижу. Куда же мне деваться?
Но у меня есть только отрицательные ответы на все. Немного можно вычитать в татарине-коммунисте!»
Листки были загадочны; не то дневник, не то письмо. Их довольно бестолковые вопрошания предполагали отвечающего. Таня не понимала откровенности с бумагой и обрадовалась, что вопли эти, случайно найденные в книге, оборвались. Ей приходилось слышать их, но в жидком разведении разговоров, которые вели они с мужем зимними вечерами. Обычно она смиряла себя:
— Сиди здесь ради него. Пусть он судит себя сам.
Ей казалось, что его не за что наказывать: и без того несправедливо сослали в захолустье его, дельного человека, способного в несколько месяцев одолеть целую библиотеку книг по одному вопросу, овладеть им вполне.
О, если бы уехать куда-нибудь! В Южную Африку… Там говорят по-немецки, там крепкий быт. Там не жарче, чем здесь, в Азербайджане. Буры. Буйволы. Копи царя Соломона. Огляделась. В комнате было скаредно и пыльно. От казенной мебели не пахло ни копями, ни даже бурским довольством. За окнами бедность Крейслеров прерывалась. Таня вышла.
Яркая, как взгляд в упор, ожесточенная действительность южного утра блеснула перед ней. С крыльца из-под шелкового шелеста платана, покрывшего весь их домик зеленым взмахом, наблюдала она, — впрочем, довольно безучастно, — сияние дворовой травки, уводящее глаза в прекрасную тополевую аллею. Ширококронные тополя выстроились вдоль заводского фасада. Тепло уже мощно висело в воздухе, как обещание зноя. До Тани донесся кухонный чад и спросил голосом Степаниды: