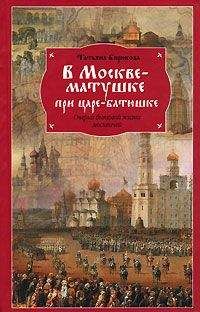Татьяна Назарова - Первые шаги
«Он хорошо, с огоньком, выступает на собраниях, зовет себя „искровцем“, не раз пришлось останавливать его за слишком левые выступления, — напомнил себе Антоныч. Но сразу мелькнула мысль: — Сегодня Вавилов ударился без удержу вправо». Слесарь заколебался. Провокатор не стал бы так говорить. «Во всяком случае, к нему надо внимательно присматриваться и быть настороже», — решил он и взглянул вновь на Вавилова. Заметив его побагровевшее лицо, встал.
— Не сердись, Костя, — примирительно промолвил он, — ты не прав. Вспомни! Владимир Ильич говорит, что если ограничивать задачи экономической борьбой с хозяевами и правительством, то это значит обрекать рабочих на вечное рабство. Возьмем условия у нас. Как ты будешь улучшать жизнь наших городских рабочих, если в трущобах тысячи голодных ютятся? Хозяева только свистнут, а они бегут к ним, готовые гнуть спину за нищенскую плату от темна дотемна. А кто создает такие условия? Царизм! Гонят сюда крестьян, превращают в бездомных, создают избыток рабочей силы для таких, как твой хозяин…
— Да что вы, товарищи, все на меня? — прервал Вавилов уже спокойно. — Может, и правда в чем не разобрался. Подумаю, почитаю, а как вместе решим, так и буду вести пропаганду.
Спор прекратился. Начали обсуждать задачи организации на ближайшее время, распределять участки работы. Теперь Вавилов поддерживал любое предложение Антоныча, все время подчеркивал свое уважение к старому слесарю.
«Он просто задира, как дали отпор, так и заговорил по-другому», — подумал Алексей.
Вавилов взял на себя предприятия Савина. Против этого никто не возражал: ему удобнее, не будет вызывать подозрений, он и по хозяйской работе должен бывать на заводах.
Первые ушли Семин с Вавиловым. Григорий, Сергей и Антоныч задержались у Мезина.
— Вы хоть чаю попейте, спорщики! — крикнула им из другой комнаты жена Мезина.
— Ладно, мать, придем сейчас, — ответил Степаныч.
— Нам надо поговорить еще о дальних товарищах, — сказал Федулов. — Писем от Палыча что-то давно нет. Напиши ему, Степаныч, письмецо от кума, поклонов не жалей, сообщи, что крестник хорошо растет, невесту пора искать…
— Не впервой! Напишу так, что хоть его превосходительство полицмейстер будет читать, так ничего не поймет, — засмеялся Степаныч. — Ты смотри, как Палыч-то навострился! Пишет хорошо, а робит еще краше…
— Палыч умный мужик, — сказал Потапов. — Я с первого раза его понял…
— Дочка средняя у него очень хороша, — неожиданно вздохнув, проговорил Алексей.
Все дружно рассмеялись.
— Ты что, Алеша, уж не отправил ли ей сердце в пакете? — лукаво подмигнул Григорий.
Алексей покраснел, но промолчал.
— Ты прав, Гриша! Палыч умный и нашему делу крепко предан, — заговорил серьезно Антоныч, идя вслед за хозяином. — Одна беда — опыта у него мало! По сути он все еще стихийный бунтарь, а не сознательный революционер. Если бы могли мы направить туда подходящего товарища, с его помощью Палыч много бы там сделал. Но пока кого пошлешь?
Когда шли домой, Антоныч неожиданно спросил Алешу:
— А ты знаешь, что Вавилов уже раньше бывал у нас?
Алеша изумленно поднял брови:
— Когда?
— На встрече первого года нынешнего столетия, у Мухина.
— Да неужто то был он?! — почти вскрикнул Алексей.
— Я сам только сегодня его узнал, — бросил Антоныч и пошел быстрей.
Глава восьмая
Давно наступила осень, но погода стояла хорошая, солнечная — затянулось бабье лето. Ближний березовый колок издали казался вылитым из золота, ни одна веточка не шевелилась. За Березинкой зазеленела отросшая после косьбы отава. Внизу, на песчаном бережке, между капустниками, окопанными канавами, важно гоготали крупные гуси — морозов нет, колоть рано.
Отец Гурьян только что кончил длинную воскресную обедню. Первыми из моленной быстро выскочили стайкой девчата. Затем неторопливо вышли бабы и, тихо разговаривая, двинулись на главную улицу. Одни из них, отделившись, сразу же направились в дальние концы села, другие, разбившись на маленькие группки, останавливались на перекрестках, не успев закончить свой разговор.
— Как Танюшка Полагутина убивается! — говорила высокая, полная баба своим собеседницам, указывая на проходившую мимо них молодую женщину в надвинутом до самых бровей полушалке.
— Еще бы не убиваться! — воскликнула маленькая бойкая бабенка. — Как уехал Андрей на войну, прислал одно письмо — и слуху больше нет. Я вон от свово Мишки уже три получила, да и то скучаю. А Татьяна на сносях осталась, от стариков шагу не ступит…
Бабы сочувственно вздохнули. И не ждали горя, а оно тут как тут! Двадцать человек из села забрали. Далеко заехали, а и тут нашли!
— И чего не поделили эти японцы, будь они трижды прокляты? — заговорила солдатка. — Жили бы да жили каждый у себя. Цари дерутся, а мужики головы под пули подставляй…
— Тише ты, Машка! Чтой-то больно разговорилась, — остановила ее третья. — Совсем как мой Родион рассуждаешь. Не видишь, Петр Андреевич плывет? И тебя, как Палыча, бунтаркой окрестит.
Бабы оглянулись. Мимо них проходил Мурашев. За последние годы он внешне сильно изменился, даже как будто помолодел. Полные щеки его лоснились и розовели. Седая борода, аккуратно подстриженная, лежала веером на груди, закрывая рубашку до самого жилета. На нем была темно-синяя тройка. Расстегнутый пиджак не закрывал выпиравшего из-под жилета круглого живота.
Рядом с ним подпрыгивающей походкой шел Парамошка Кошкин, над которым потешалось все село. Видно, из уважения к своему спутнику он нес в руках буроватый, с обломанным козырьком картузишко.
— А ты, Парамон Филимонович, не стесняйся. Закусим чем бог дал да и побеседуем. Для меня все братья во Христе равны. Грешен, много о мирском пекусь, но бога не забываю, как некоторые у нас, — донеслось до баб.
Они изумленно посмотрели друг на друга.
— Свят-свят, горшки летят! — дурашливо закрестилась Марья. — Чтой-то Парамошка больно в честь попал. Никак его Петр Андреевич к себе для беседы повел… — И она звонко рассмеялась.
— Ой, бабы! Не могу забыть, как Парамошка рассказывал про потерю пятирублевика, — говорила она, давясь от смеха. — «Мне Лисафетка говорит: „И что ж ты, дурень, его в полог-то положил, а не в карман?“ А сама ни одного кармана не пришила, а вот в пим-то я и не догадался спустить», — передразнила она Кошкина, всегда говорившего торопливо и заикаясь.
— Ну тебя, Машка! Тебе только бы обсмеять. Нужда заест, так поневоле дураком станешь, — остановила ее Надежда Родионова. — Вот, слышь, богомолец-то наш про бога рассуждает: «Бога не забываю», — повторила она слова Мурашева. — Это он-то не забывает? Из всех кровь повысосал с сынками да с дружками своими, — голос Надежды задрожал от гнева, — у Матвея Фомина последнюю лошаденку за долг через неделю посулился свесть, коль не заплатит…
Все трое, оглянувшись, не слушает ли кто, принялись честить богачей. Вместе приехали на новую землю, всем бы равно богатеть надо, ан так не вышло. Одни в гору лезут непрестанно, вон как Мурашевы, а другие и на новом месте с хлеба на квас перебиваются.
Петр Андреевич с сыновьями Акимом и Павлом торговлей занялись, а средний, Демьян, с батраками да должниками крестьянское хозяйство ведет, с каждым годом все больше распахивает целины — арендует землю у киргизцев. За ним тянутся и богачи помельче — Дубняк, Коробченко, Кондрат Юрченко.
В прошлом году вчетвером мельницу построили, запрудив Березинку повыше села, при ней маслобойку поставили, а нынешним летом — еще и крупорушку. Из всех ближних сел повезли мужики зерно и просо, подсолнух, конопляное семя, рыжик… По фунту с пуда берут. Поговаривает народ, что сверх того еще захватывают: то обвесят, то обмерят, совести-то ни у одного нет…
— А уж злыдни-то какие! — сказала солдатка, когда все отвели душу, разобрав по косточкам мироедов. — Особливо Коробчиха. Ну поедом сноху ест! Какой красивой девкой Параська была, а сейчас высохла — и красоты не заметно.
— Не ко двору Параська им пришлась. Обманывать не умеет, совесть есть, вот и грызут. Сестра-то ее Галька цветет у Дубняков. Забыла, что сама не из богатых, со всякого норовит рубашку последнюю снять, — ответила Надежда и заторопилась: — Пошли, бабы, а то, наверно, мой Родивон уже дома.
Распрощавшись, они разошлись в разные стороны.
В это время пара, изумившая баб, подходила к богатому дому Мурашевых. Дом, как и хозяин, тоже изменил свой первоначальный облик. За счет пристройки вдвое расширился, и вместо камышовой крыши на нем теперь блестела железная, покрашенная бордовой краской. Лавка примыкала вплотную ко двору, передняя сторона которого была огорожена толстыми плахами. Ворота украшала металлическая оковка. Открыв калитку, Петр Андреевич приветливо пригласил гостя. Огромный барбос, сидевший на цепи, залился злобным лаем. Кошкин, оторопев, остановился.