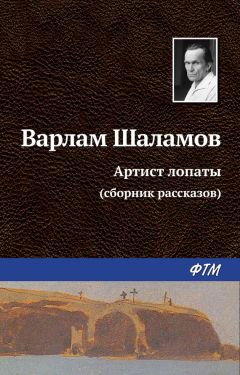Варлам Шаламов - Артист лопаты
курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные — до окончания срока осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная профессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло — то ли года были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность,
доброта его были вне всякого сомнения. «Политики» он боялся как огня, но доносить не пошел бы.
У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое уменье ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие — столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой — уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.
Преступники на воле и в лагере только одни — блатари. Силайкин был умен, он был великий сердцеведец и, осужденный за мошенничество, был по-своему порядочным человеком. Есть порядочность от чувства, от сердца. И есть порядочность от ума. Не честных убеждений, а честных привычек не хватало Силайкину. Он был правдив, потому что понимал, что сейчас это выгодно. Он не сделал ни одного поступка против правил потому, что понимал, что этого делать нельзя. В людей он не верил и личную корысть считал главным двигателем общественного прогресса. Он был остроумен. На занятии по общей хирургии, когда опытнейший преподаватель Меерзон никак не мог втолковать курсантам «супинацию» и «пронацию», Силайкин встал, попросил слова и протянул руку с ладонью лодочкой вверх: "супу дай", и повернул ладонь: "пронесли мимо". Все — в том числе и Меерзон — запомнили, вероятно, на всю жизнь мрачную мнемонику Силайкина и оценили его колымское остроумие.
Выпускные экзамены Силайкин сдал вполне благополучно и работал фельдшером — на прииске. Работал, вероятно, хорошо, потому что был умен и "понимал жизнь". "Понимать жизнь" — это, по его мнению, было главным.
Столь же грамотным был его сосед по столу — Логвинов — Илюша Логвинов. Логвинов, осужденный за разбой, не будучи блатарем, все больше и больше попадал под влияние уголовного рецидива. Он видел ясно силу блатарей в лагере — силу и нравственную и материальную. Начальство заискивало перед блатарями, боялось блатарей. Блатарям в лагере был "родной дом". Они почти не работали, пользовались всяческими привилегиями, и хоть у них за спиной тайком составлялись этапные списки и время от времени приезжал "черный ворон" с конвоем и забирал особо разгулявшихся блатарей, но такова была жизнь — и на новом месте блатарям не было хуже. В штрафных зонах они были тоже хозяевами.
Логвинов, сам из трудовой семьи, совершивший преступление во время войны, видел, что его ждет одна дорога. Начальник лагеря, читавший дело Логвинова, уговорил его поступить на курсы. Экзамен был кое-как сдан, началась учеба страстная, безнадежная. Предметы медицины были слишком сложной материей для Илюши. Но он нашел в себе душевные силы не отступиться, окончил курсы и работал ряд лет старшим фельдшером большого терапевтического отделения. Он освободился, женился, завел семью. Курсы открыли ему дорогу в жизнь.
Шла вводная лекция по общей хирургии. Преподаватель перечислил имена людей, стоявших на вершинах мировой медицины.
— …И в наше время один ученый сделал открытие — переворот в хирургии, в медицине вообще…
Мой сосед нагнулся вперед и выговорил:
— Флеминг.
— Кто это сказал? Встаньте!
— Я.
— Фамилия?
— Кундуш.
— Садитесь.
Я ощутил чувство резкой обиды. Я-то вовсе не знал, кто такой Флеминг. Я просидел в тюрьме и лагере почти десять лет, с тридцать седьмого года, без газет и без книг и ничего не знал, кроме того, что была и кончилась война, что есть какой-то пенициллин, что есть какой-то стрептоцид. Флеминг!
— Кто ты такой? — спросил я Кундуша впервые. Ведь мы вдвоем приехали из Западного управления по разверстке, обоих нас направил на курсы наш общий спаситель врач Андрей Максимович Пантюхов. Мы вместе голодали — он меньше, я — больше, но оба мы знали, что такое прииск. Друг о друге мы не знали ничего.
И Кундуш рассказал удивительную историю.
В 1941 году он был назначен начальником укрепленного района. Строители не спеша возводили доты и дзоты, пока июльским утром не рассеялся в бухте туман, и гарнизон увидел на рейде прямо перед собой немецкий линкор "Адмирал Шеер". Рейдер подошел поближе и в упор расстрелял все незаконченные укрепления, превратил все в пепел и груду камней. Кундуш получил десять лет. История была интересна и поучительна, в ней была только одна неясность статья Кундуша: «аса». Такую статью
не могли дать за оплошность, обнаруженную "Адмиралом Шеером". Когда мы сошлись побольше, я узнал, что Кундуш был осужден по пресловутому "делу НКВД" — одному из массовых открытых или закрытых процессов времени Лаврентия Берии: "ленинградское дело", "дело НКВД", Рыковский процесс, Бухаринский процесс, "кировское дело" — все это и были "этапы большого пути". Кундуш был горячим, порывистым человеком, не всегда умевшим сдержать вспыльчивость и в лагере. Был человеком безусловно порядочным, особенно после того, как воочию увидел «практику» мест заключения. Его собственная работа в недалеком прошлом — завотделом у Заковского в Ленинграде предстала перед ним в истинном, подлинном виде. Не потерявший интереса к книге, к знанию, к новости, умеющий ценить шутку, Кундуш был одним из самых привлекательных курсантов. Фельдшером он проработал несколько лет, но после освобождения перешел на работу снабженца, стал стивидором в Магаданском порту, пока не был реабилитирован и вернулся в Ленинград.
Любитель книг, особенно примечаний и комментариев, никогда не пропускающий напечатанного мелким шрифтом, Кундуш обладал широкими, но разбросанными знаниями, с удовольствием беседовал на всякие отвлеченные темы и по всем вопросам имел какой-то свой взгляд. Вся его натура протестовала против лагерного режима, против насилия. Личное свое мужество он доказал позднее, в смелой поездке на свидание к заключенной девушке-испанке, дочери кого-то из членов мадридского правительства.
Кундуш был рыхлого сложения. Все мы, конечно, ели кошек, собак, белок и ворон и, конечно, конскую падаль — если могли достать. Но став фельдшерами, мы этого не делали. Кундуш, работая в нервном отделении, сварил в стерилизаторе кошку и съел ее один. Скандал едва удалось потушить. С господином Голодом Кундуш встречался на прииске и хорошо запомнил его лицо.
Все ли рассказывал Кундуш о себе? Кто знает? Да и зачем это знать? "Не веришь — прими за сказку". В лагере не спрашивают ни о прошлом, ни о будущем.
Слева от меня сидел Баратели, грузин, осужденный за какое-то служебное преступление. Русским языком он владел плохо. На курсах он нашел земляка преподавателя фармакологии, нашел поддержку и материальную, и моральную. Прийти поздно вечером в «кабинку» при больничном отделении, где сухо и тепло, как в летнем хвойном лесу, напиться чаю с сахаром или поесть не спеша перловой каши с крупными брызгами подсолнечного масла, чувствовать ноющую, расслабляющую радость всех оживающих мускулов — разве это не предел чудес для человека с прииска? А Баратели был на прииске.
Кундуш, я и Баратели сидели за четвертым столом. Третий стол был короче других — там был выступ печки-голландки, и сидели за этим столом двое Сергеев и Петрашкевич. Сергеев был «бытовичок», бывший в заключении агентом снабжения — фельдшерская школа ему была не очень нужна. Занимался он небрежно. На первых практических занятиях по анатомии в морге — чего-чего, а трупов в распоряжении курсантов было сколько угодно, — Сергеев упал в обморок и был отчислен.
Петрашкевич не упал бы в обморок. Он был с прииска, да притом «литерник» по «каэровской» статье. Литер этот был нередкий в тридцать седьмом году: "осужден как член семьи", и больше ничего. Так получали «срока» дети, отцы, матери, сестры и прочие родственники осужденных. Дед Петрашкевича (не отец, а дед!) был видным украинским националистом. По этим соображениям в 1937 году был расстрелян отец Петрашкевича — украинский учитель. Сам Петрашкевич — школьник, шестнадцати лет, получил "десять рокив", "как член семьи".