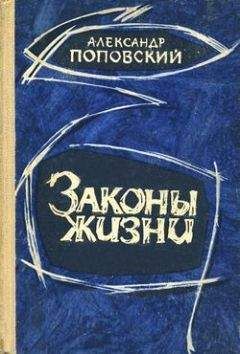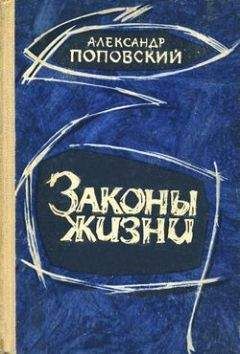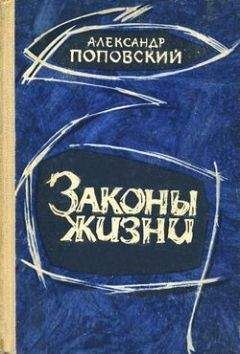Александр Поповский - Повесть о жизни и смерти
Спустя неделю Бурсов вернулся. Он по-прежнему был чем-то встревожен, и, насколько я понял из его разговора с Надеждой Васильевной, отношения их серьезно ухудшились. Он в чем-то винил ее, говорил о лжи, которую никогда не простит, поведение ее называл недостойным. Она слабо защищалась и взволнованным шепотом как-то промолвила:
— Не сердитесь, Михаил Леонтьевич, не надо… Я сказала неправду, чтобы помочь вам меня разлюбить… Для вашей же пользы… Кто мог подумать, что вы броситесь выяснять, действительно ли я замужем и верно ли, что у меня двое детей…
Он был с ней резок и порой жесток. Мне его речи причиняли страдание, как если были бы направлены против меня. Как мне тогда хотелось вмешаться и оградить ее от обид!
— Вы знали, что ваши сказки о горячо любимом муже мне неприятны, — не унимался он, — почему вы прямо не сказали, что любите другого?
Ее молчание не успокаивало, а раздражало его. Возбуждаемый новыми и новыми подозрениями, он уже более уверенно бросил:
— Любите другого, а заигрывали со мной… Ведь это так.
Она насмешливо взглянула на него и молча кивнула головой.
Бедняга Бурсов! После первой головоломки с мужем, якобы живущим где-то далеко, опа задала ему другую. Где этому юнцу разобраться в стратегии женщины, одержимой желанием подогреть нежное чувство любимого?.. О, эти влюбленные, они сущие дети!..
Шли дни. Мое время проходило в раздумье, в тщетных попытках найти новый метод пересадки сердца, а мир вокруг меня не наступал. Мои помощники по-прежнему чуждались друг друга. Мрачные и молчаливые, они, как тени, бродили но лаборатории. Прежние друзья избегали вступать в разговор, а вынужденные заговорить, обходились сухими и короткими фразами.
Мне стало их жаль, и я сделал попытку восстановить мир.
— Пора ссору кончать, — сказал я Надежде Васильевне. — Михаил Леонтьевич извелся, разве вам его не жаль? Он очень вас любит, вы должны его пожалеть.
Она как-то странно на меня посмотрела и не сразу отвела глаза. Что означал этот испытующий взгляд? Ни упрека, ни согласия он не выражал, он говорил о чем-то мне неизвестном. Так по крайней мере, мне показалось. Напрасно я ввязался не в свое дело, вряд ли мои советы ей нужны.
— Мне, быть может, не следовало бы… — начал было я, но она движением руки остановила меня.
— Следовало бы, Федор Иванович, ведь мы с вами друзья… Вы должны меня понять, — слабо улыбаясь, проговорила она. — я люблю другого… Михаил Леонтьевич знает, я не скрывала от него… Разве в наших силах что-нибудь изменить…
Печалью веяло от ее внезапно померкшего взгляда, низко склоненной головы и горестного полушепота… Как легко иной раз ошибиться! А я-то завидовал ему… Удивительно, что в ту минуту мне не Бурсова, а себя стало жаль. Странно, конечно. Разве не безразлично, кого Надежда Васильевна любит?..
Напрасно я надеялся, что ущемленное самолюбие придаст Бурсову мужество и подскажет ему оставить Надежду Васильевну в покое. Увы, благоразумие покинуло влюбленного. Кстати и некстати вспоминал он о недавней обиде, сетовал на людскую неправду и в какой уже раз уверял, что этого ей не простит. Один из таких разговоров дошел до меня, когда я находился в соседней комнате, где время от времени превращался то в слесаря, то в механика, то в конструктора. Занятый проверкой компрессора, служащего для подачи кислорода во время операции, я вначале не придавал их беседе значения, но возбужденный голос Надежды Васильевны невольно привлек мое внимание.
— Вам пора уняться, вы становитесь несносным, — сказала она. — Вы не единственный, кому в жизни не повезло. Я ненамного счастливей вас.
Бурсов отвечал с той нервной напряженностью, которая стала для него обычной.
— Вы должны были мне сказать, что любите Федора Ивановича… Не возражайте, я не слепой и отлично все вижу… Вы души в нем не чаете…
До чего эти влюбленные наивны! Как Легко они становятся добычей собственной фантазии!.. Надо же этакое придумать… Ничего вы, Михаил Леонтьевич, не разглядели, вам померещились страсти в добрых чувствах молодой ассистентки к немолодому учителю. Этак чего доброго вы и мои мысли о том, как она хороша, пошли мне судьба такую подругу, я бы в ножки ей поклонился, — за влюбленность сочтете…
Когда Бурсов снова повторил ей свои подозрения, она огляделась, не услышит ли ее кто-нибудь, и гневно бросила:
— Если уж вам так хочется, так знайте, что я действительно его люблю. Когда-нибудь приду и скажу ему: «Как хотите судите, но я вас люблю, Федор Иванович!»
«Молодец! — в душе похвалил я ее. — Отчитала — и поделом». Игра, правда, жестокая, но иначе ей, видимо, нельзя.
Михаил Леонтьевич с тех пор переменился. О том, что случилось, он больше не вспоминал. Надежде Васильевне слова лишнего не скажет, послушный, услужливый, все, что она попросит, исполнит, ни перед чем, казалось, не остановится.
В начале октября подготовка к опытам была закончена, все процессы пересадки отработаны и частично проверены. Новый способ хоть и казался сложным — заодно с сердцем пересаживались и легкие — имел то преимущество, что сшивать приходилось лишь два сосуда. Удаленные легкие и сердце подшивались в грудную клетку животного, и несколько минут свои и чужие органы уживались рядом. Вторым приемом собственное сердце и легкие удалялись. Операция была рассчитана на полчаса.
Все, казалось, было учтено, тщательно продумано и предусмотрено, и, тем не менее, первые десять собак прожили после пересадки от нескольких часов до двух дней. Одиннадцатая погибла на пятые, а двенадцатая — на седьмые сутки. Неудачи и ошибки умудряли нас опытом, обогащали нашу мысль, мы учились и творили одновременно. Так было найдено средство заставить вырезанное сердце, подобно лягушачьему, непрерывно сокращаться. Пока шла пересадка, оно ни на мгновение не останавливалось.
Нас не страшил больше шок, беспощадно губивший наших животных. Так, однажды во время операции, когда я ощутил, что давление крови в артериях животного падает, я сдавил грудную аорту и, подняв этим давление, предотвратил гибель. В другой раз успех был достигнут иначе. В критический момент я приостановил на минуту искусственное дыхание, лишил животное кислорода, пока накопившаяся в организме углекислота не возбудила сосудодвигательную систему… И ту и другую находку мы сберегли для хирургов. Метод, оправдавший себя в эксперименте, может пригодиться человеку…
* * *
Антон не забывал нас и время от времени давал о себе знать. То привет перешлет с друзьями, в праздничные дни поздравит нас по телефону или вовсе задарит посылками фруктов. Его письма, написанные каллиграфическим почерком на линованной бумаге, ничего интересного не содержали. Об опытах и исследованиях говорилось вскользь, больше внимания уделялось научному руководителю — моему другу патофизиологу и хирургу Воробьеву. Много рассказывалось о его характере и привычках, об искусстве работать в любых условиях, о его доброте и снисходительности к молодым помощникам. В этом отношении, писал Антон, он удивительно напоминает меня.
В одном из писем я нашел фотографию стенной газеты с обширной статьей, подписанной Антоном и Воробьевым. В ней сообщалось об оживлении обезьян спустя десять-пятнадцать минут после клинической смерти. Авторы статьи ссылались на мои работы и указывали, что один из них — Антон Семенович Лукин — усовершенствовал приемы, которые мною применялись на фронте. Свое отношение к автору письма Надежда Васильевна определила одним словом — «сорняк». Я счел своим долгом указать на двусмысленность этого понятия. И рожь, и целебные травы считались сорняками прежде, чем мы ближе узнали их…
— Вы, конечно, промолчите, — спросила она, сердито постукивая пальцем но лежащему на столе письму, — не писать же опровержение в стенную газету.
Чтобы рассеять ее сомнения, я сказал:
— Я не стал бы оспаривать свои научные заслуги и в столичной газете. Это нескромно и не всегда убедительно.
«Почему бы мне, богатому дяде, — подумал я про себя, — не уделить чего-нибудь бедному родственнику?»
Последующие письма приносили новые свидетельства головокружительных успехов Антона. Пакеты становились объемистыми, стенную газету сменяли районная, городская и, наконец, областная. Все они отдавали дань заслугам Воробьева и неизменно помещали одну лишь фотографию Антона. Надежда Васильевна обратила на это мое внимание и едко добавила:
— Ваш милый племянник никого не терпит рядом с собой, даже на бумаге.
Ее ненависть к нему была беспощадна. Даже случайно она не обронила о нем доброго слова. Вряд ли ее огорчило бы самое ужасное, если бы оно постигло его.
В тот день, когда областная газета сообщила, что в обезьяньем питомнике клиническая смерть обезьяны длилась около получаса, письмо Антона занимало лишь четвертую часть страницы, небрежно выдернутой из тетради. Имя Воробьева в нем не упоминалось, туманно было сказано, что сердце опять обмануло Антона и на этот раз жестоко. Более подробно — при скорой встрече.