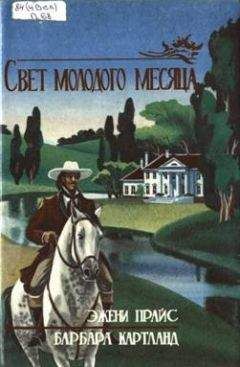Владимир Мирнев - Нежный человек
Такими нехитрыми приемами Лариса Аполлоновна закрепляла в сознании дочери то, чего добивалась. Тщеславная мысль о том, что она – вдова генерала и крупная общественная деятельница, щекотала, но не успокаивала, так как ее деятельная натура стремилась к овеществлению своего нового положения, утвержденного теперь официальным документом. Эти документы попадались на глаза, разумеется «случайно», Марии, Оболокову, многочисленным приятелям Ирины.
Мария в последние дни стала главным объектом излияний Ларисы Аполлоновны, возвращения ее с работы тетя ожидала с небывалым нетерпением.
– Да, милочка Маруся, жить надо честно и правдиво на земле, – вздыхая, издалека заводила разговор Лариса Аполлоновна; начинала как бы случайно, как бы занятая совсем другими, более важными мыслями. С того самого дня, как она получила характеристику, у нее в голосе что-то изменилось, слова стала произносить спокойнее, размереннее, как подобает человеку значительному. – Я самый насущный тому пример. Как я прожила жизнь? Кто скажет, что не так, как положено? Никто. Абсолютно! Только человек с нечистой совестью польстится на такое грязное мероприятие. Я так много сделала для людей, отдала им столько сил, здоровья, столько своих нервных клеток положила на алтарь их благополучия, что этих самых клеток хватило, чтобы построить космический корабль для полета на Марс.
Такие разговоры заводила Лариса Аполлоновна всякий раз по возвращении Марии с работы, полагая, что если вода камень точит, то уж из рассказанного что-то да западет племяннице в душу и пустит росточек. Мария по своей наивности слушала, хотя ей, признаться, уже надоели рассказы томящейся от безделья тети Ларисы, и она старалась поскорее сесть за учебники.
***
Первый экзамен – сочинение. И Мария пыталась, придя с работы, как можно быстрее сбежать из квартиры, посидеть в сквере или во дворе – почитать учебники. Но тетя Лариса, решив, что влияет на племянницу исключительно положительно, а ее беседы вместе с тем большая честь для провинциалки, старалась, как только могла, получая и сама немалое удовольствие от своих же назиданий, которые сводились к поучительным примерам добродетельных шагов самой Ларисы Аполлоновны как вдовы боевого генерала и крупной общественной деятельницы.
– Я скоро буду приглашена в один большой дом, так там будут исключительно высокие люди, достойные глубочайшего уважения и всяческого почитания, – объявила однажды Лариса Аполлоновна.
– Да, тетя Лариса, но у меня завтра экзамен.
– Завтра? – удивилась тетя, сраженная этим сообщением точно громом. – Да что ж ты, дуреха, молчишь? Да как же теперь? Завалишь ведь! Бестолковая ты моя, вот умишком не вышла. Как же ты молчишь? Что у нас завтра за день?
– Пятница. Первое августа.
– Да уж вечер! Да что ж ты молчишь? – поражалась Лариса Аполлоновна. – Завалишь ведь, я знаю. Мне надо было ввязаться.
– Да как, тетя?
– Пошла бы прямо и объяснила им, кто я такая и кто ты такая. В жизни, милочка, должен быть контроль. Не народный, а личный контроль.
– Зачем, тетя Лариса? – сконфузилась Мария.
– Как зачем? А ты моя племянница. А экзамен, говоришь, утром?
– В девять часов утра.
– У Иринки тоже был в девять, но я знала за неделю, когда у нее произойдет экзамен. Ну, милочка Маруся, с такой тетей – и пропасть – грех на себя надо брать великий. Хотя бога нету и греха, значит, тоже нету. Я бы с ними говорила так, что они бы не посмели тебе поставить плохо. Они бы поняли, с кем имеют дело, а то своих же будут толкать все равно – знакомых, родственников. Как же ты?! Эх, милочка Маруся, гляди, сама будешь виноватая: провалишь, как пить дать, провалишь. И даже не возражай мне.
***
Еще только-только окон коснулся первый свет, как Мария вышла на улицу, думая только о том, что ничего не знает и что голова ее удивительно пустая. Она волновалась, как девочка-первоклассница, которая впервые переступила порог школы. Мария, боясь сглазу, до последнего дня никому на работе не сообщала об экзаменах; только в последний день, когда нужно было подписать заявление о предоставлении отгулов за сверхурочную работу, пришлось ей открыться. Коровкин в тот день, когда Дворцова подошла к нему с заявлением, непонимающе уставился на нее, подумал для солидности минуты три-четыре, не удивляясь и как бы подчеркивая важность задуманного Марией и переживая вместе с подчиненной ответственность момента. Галина Шурина восхитилась, узнав о поступке подруги. Вместе с Коновой она устроила вокруг Марии настоящий танец, шепча какие-то суеверные заклинания, долженствующие помочь ей на экзамене. Мария боялась огласки; еще с детства в ней пряталось допотопное суеверие, что, если серьезное дело станет явным до поры до времени, не стоит ждать удачи.
До восьми часов листала Мария учебник, останавливаясь на темах, которые, как ей думалось, могут предложить на экзамене. Без пятнадцати девять торопливо поднималась по лестнице института. У входа заметила Коровкина, очень удивилась этому и прошла мимо, слегка кивнув в ответ на его радостную улыбку. В коридоре приостановилась, почувствовав какое-то сладкое, приятное чувство оттого, что в большой массе незнакомых лиц, занятых исключительно своим делом, сосредоточенных на одном – экзамене, вдруг увидела знакомое лицо. Она постояла, соображая, зачем же пришел Коровкин, и от неожиданно мелькнувшей, словно лучик в темноте, приятной мысли, рассмеялась: «Господи, так из-за меня тут торчит и переживает, а я-то, дура, протопала мимо и только кивнула ему». Эта неожиданная встреча увела ее мысли в сторону от экзаменов. В аудитории, обдумывая тему, нет-нет и вспоминала о том, что мастер стоит и ждет, наверное, ее, и эта навязчивая мысль не давала полностью сосредоточиться на сочинении. И только под конец, переписав сочинение набело, Мария забыла о Коровкине, вышла во двор института, усталая, с чувством исполненного долга собиралась отдохнуть. Коровкин был во дворе, сидел на скамейке под липой и, закинув нога на ногу, вносил в записную книжку какие-то смешные мысли, пришедшие в голову только что. Мария остановилась и спросила:
– Сидим, мастер? А мы вот сочинение написали: «Идеал современного человека»…
Коровкин нимало не смутился, что его застали за таким прозаическим делом, засунул книжку в карман, улыбнулся, ласково посмотрел на нее и сказал:
– Послушай, что сказал Пушкин: «Мы близимся к началу своему». Как это понимать? Это ж такие слова, сразу не поймешь, а? Как это? «…К началу своему». То есть от начала к концу, а? Или от конца к началу?
– Не зна-аю, – отвечала Мария, чувствуя в себе после экзамена необычную легкость, словно груз сбросила.
– А я за тебя волновался.
– Ну-у? Сколько же от волнения вы записали глубоких мыслей?
– Мыслей много. Но ты такой молодец. В наш исторический век трудно поступить учиться, это я знаю по опыту. Серьезно, девочка, наука требует жертв и громадного напряжения сил. Я поступал четыре раза и четыре раза уходил по собственному желанию.
– А чего ж так?
– «За полное непосещение курса предложить увольнение по собственному желанию». С точки зрения всемирного строительства более правильной жизни – это основополагающая мысль. Хочешь, я тебе учебники по математике такие дам для экзаменов, сразу сдашь? Хочешь?
– Хочу. Но надо узнать, что же мне поставят по сочинению, – отвечала Мария. Ее не покидало хорошее настроение.
За учебниками пришлось ехать к нему домой, и, хотя она испытывала неловкость, все же согласилась. Нехорошо было отказываться, и к тому же любопытство брало верх: как же мастер Коровкин живет?
Квартира Коровкина находилась в центре, на улице Белинского – возле Центрального телеграфа. Комнату свою в большой коммунальной квартире он не променял бы на хоромы в кирпичных благоустроенных домах на окраине Москвы, где жило начальство его управления. Вход был со двора – каменного четырехугольника, наглухо замкнутого со всех сторон старыми домами; во дворе было одно живое существо – березка с обломанной верхушкой, по странной случайности выросшая в расщелине стены. Сначала Мария увидела огромную кухню с изумительной газовой плитой и с множеством индивидуальных кухонных столов. Комната Коровкина не отличалась обширностью, никто не рисковал сказать о ней: «Большая, как футбольное поле в бразильском городе», но и одиннадцать метров, если учесть трехметровые потолки, вполне устраивали мастера, благоденствующего в самом центре столицы, где на каждом углу висит объявление: «Сниму квартиру или комнату в центре и с телефоном». Обратите внимание – в центре! Всем хочется непременно в центре. Но не все имеют квартиру в центре, а вот мастер – да.
Правда, мать тесно заставила в свое время квартиру мебелью. Здесь был громоздкий платяной шкаф тридцать седьмого года рождения, в который можно вложить все вещи, находящиеся в комнате. А ведь у окна, выходящего на тротуар и мостовую одновременно, как у всякого москвича, красовался большой, новый, крепко сколоченный, так, будто его хотели смастерить лет на триста, стол отечественного производства, раздвижной и на ножках невероятных размеров, вокруг стола расположилось пять венских стульев, в углах дремали какие-то шкафчики поменьше, тумбочки, старый холодильник «ЗИЛ», который не работал уже девять лет; этажерка из красного дерева восемнадцатого века с книгами словно висела в воздухе и смотрелась в комнате чужестранкой. На этажерке заметила Маша книги: «Три мушкетера» и «Анна Каренина», собрание сочинений Жорж Санд и вузовские учебники. У стен стояли кровать и старый диван-кровать, купленный буквально за гроши, за маленькие рубли, как говаривали в квартире. Слишком много, по понятиям Марии, вещей в комнате у мастера; ей подумалось, что у Коровкина имелась еще одна комната. Но и эта – отличная, надо отдать справедливость строителям: как уже говорилось, с потолками высокими, большим окном, толстыми стенами. Окно, правда, мылось лет пять назад – так казалось. Мебель расставлена кое-как – от этого никуда не денешься. Пыль с мебели не смахивалась давно, но данное обстоятельство зависело от хозяев комнаты. Мария сразу все поняла и спросила: