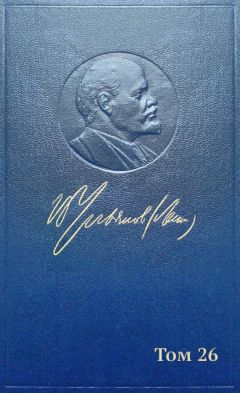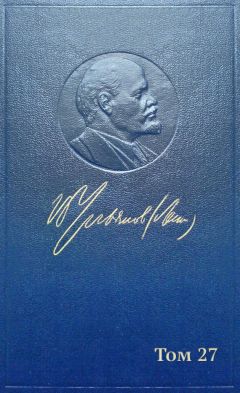Михаил Соколов - Грозное лето
Раздался гром аплодисментов, и смеха, и криков: «Браво!», но Плеханов будто и не для этого сравнивал Вильгельма с Калигулой и, передохнув, продолжал читать свой реферат, написанный заранее, хотя обычно он читал изустно, и шум постепенно стих.
Ленин сидел рядом с Инессой, со Шкловским и тоже хлопал в ладоши, и говорил:
— Ничего не скажешь, умеет наш «Патриарх» рассмешить публику.
— Любопытно, что он скажет о русском Калигуле, Николае Втором? Ведь его следует защищать всякому оборонцу… — заметил Зиновьев.
— Николая защищать не станет, не глупец же он, — ответил Шкловский, поглаживая свою бородку-козлик, и посоветовал: — А вы послали бы свою записочку, Владимир Ильич. Не то могут поприжать…
— Подождем еще немного. Послушаем. И никто, кажется, еще ничего не подавал. Быть может, никто и не будет выступать, и мне придется полемизировать одному? Гм, гм…
Зиновьев сделал вид, что не понял его слов, и даже отвернулся, как будто кого-то искал взглядом, а Шкловский продолжал:
— Против Плеханова, Владимир Ильич, не выступит никто, ибо здесь его поклонники и сторонники, и видите, как рукоплещут? Так что вам только и придется взять слово. Мы поддержим, наших здесь человек двадцать наберется.
Плеханов теперь разносил Вильгельма Второго:
— …И сей косорукий пигмей в политике и невежда в делах государственных, немного малюющий и немного копающийся в африканской земле, где есть алмазы, и много продающий баварского пива в своей собственной ресторации, жалкий шпион в пору, когда был наследником, продавшим за почести при русском дворе секреты своего любезного рейха, провинциальный клоун и просто одержимый глупец, коего даже собственная матушка не очень жаловала, — вздумал, видите ли, примерять полинялый сюртук Наполеона, чтобы поставить на колени Россию и Францию, да еще прихватить Англию, и если удастся, то и Индию, а то и Америку и Африку… Жалкий кривляка и позер осмелился поднять меч на целые страны и народы! И после этого его личные социалисты из немецкой фракции в рейхстаге подставляют ему свои спины, поддерживая его кровавый авантюризм и всеевропейский разбой, и орут ура-патриотические песни вместе с пьяными солдатами. Кроме Либкнехта, Цеткин, Розы Люксембург, Меринга, Пика.
Тут он остановился, так как слушатели опять захлопали в ладоши оглушительно и со всем усердием.
Ленин снял шляпу и слушал очень внимательно. Лицо его было бледно, что говорило о крайнем волнении, во рту пересохло, хотя можно было тут же купить пива, и, однако, он будто забыл о нем и думал: Плеханов уже выступил с этим рефератом в Париже, в Женеве, теперь выступает здесь, в Лозанне, и конечно же этим не ограничится и будет мутить воду и подыгрывать шовинистическому угару монархистов всех мастей в Европе и в России. И вредить антивоенной пропаганде партии. И сеять разброд в рядах революционного рабочего класса России, сбивая его на путь национал-шовинизма и забвения классовых интересов пролетариата. Не выступать против такого поведения «Патриарха русской социал-демократии» и его нового оппортунистического вихляния и действий — невозможно. Выступить же пока никто не пожелал и не записался, хотя в зале было много большевиков и меньшевиков-партийцев, которые не во всем соглашались с Плехановым в прошлом.
Впрочем, даже Зиновьев сказал днем, когда ехали из Берна:
— Я бы, будучи на вашем месте, не выступил бы, Владимир Ильич. Не дадут меньшевики — устроители реферата — критиковать своего бога. И Бухарин тоже придерживался такого же мнения. Лучше нам самим устроить ваш реферат здесь же, в Лозанне.
Ленин сердито произнес:
— Так, так. Не дадут выступить против своего бога. А вам дадут? А Бухарину? Дадут? Так почему же вы не намерены выступить, кстати, не только против бога — Плеханова, а против оппортунистической деятельности Второго Интернационала, коему каутские, вандервельде и теперь Плеханов приказали долго жить?
Зиновьев пожимал плечами и говорил:
— Я, конечно, могу записаться, если это очень надо…
— Очень надо, весьма надо! — прервал его Ленин и продолжал: — Но если так обстоит дело, тогда не надо. Записываться не надо. Никакого выступления у вас не получится. Силком. И в таком случае я выступлю один. И не к Плеханову лично только обращусь, а к партии, ко всему русскому революционному рабочему классу, и не только русскому. Они поймут меня без аплодисментов, которые любит Плеханов… Вот так, милостивые государи.
Зиновьев извиняющимся тоном сказал:
— Вы не так поняли меня, Владимир Ильич. Я хотел только предупредить…
— А вы и предупредили, Григорий Зиновьев: по поводу своего не-большевизма. Кстати, не впервые, ибо я не помню случая, чтобы вы где-нибудь выступили со всей определенностью и большевистской страстностью. Впрочем, как и Бухарин.
— У Бухарина — семья, Владимир Ильич, он даже сам обеды готовит…
— И вместо соли сыплет сахар, — заметила Инесса Арманд.
Ленин нахмурился и более об этом не говорил. Не любил он всяческие выверты Зиновьева, когда надо было заявить о своем мнении по тому или иному поводу перед большой аудиторией, но не палкой же его загонять за кафедру?
Сейчас он думал: выступление против реферата Плеханова — это не спор с очередным вихлянием меньшевизма; это продолжение борьбы против еще одного предательства марксизма, теории и практики революционного движения. Был Вандервельде, Каутский, Гед и прочие, теперь к ним присоединился Плеханов. Кто бы мог подумать и ожидать? Позор неслыханный. Для Плеханова, первого марксиста России. И несчастье для дела революции. Неужели этого не понимают и некоторые большевики? Зиновьев, например, Бухарин или другие, вчера еще так уверенно рассуждавшие, что такое есть марксизм, а что — бернштейнианство?
Тревожно было на душе у Ленина. В тюрьме, в Новом Тарге, он не раз думал: только бы вырваться на свободу, только бы вновь встретиться с товарищами, с друзьями по партии — и все закипит, завертится еще пуще прежнего, борьба против войны. «Ан не так это легко делать, оказывается. Со своими и то не легко. И то сказать: на собрании бернской группы некоторые из наших встали на позиции если не оборонческие, то и не далекие от них, и пришлось начинать едва не с азов, чтобы люди поняли это. А что же теперь творится в России? Среди низовиков-партийцев, на фабриках и заводах? Разброд. Кто в лес, кто — по дрова. И плехановский ура-патриотизм, сиречь оборончество, прибавит этого разброда и идейной хляби во сто крат…» — думал он сейчас.
И передал записку председательствовавшему.
Плеханов между тем продолжал разносить Германию и немецких социалистов и цитировал, цитировал наизусть то Маркса, то решения конгрессов Интернационала, то историю Востока и Европы, и все это делал для того, чтобы доказать, что настоящая война должна возбудить решимость у каждого, кто подвергся нападению, а к таким он отнес всех, кроме Германии и Австрии…
— …Да, разумеется, данная война есть продукт чистейший империализма, война завоевательная. Ее предсказывали все конгрессы Интернационала, в том числе и германские социал-демократы. И что же? Они и пальцем не ударили, чтобы остановить развитие событий, имея сто одиннадцать депутатов рейхстага, а подняли руки за военные кредиты. Позор падет на их голову!..
И вновь зал разразился шумом, и гамом, и криками одобрения таких его слов, так что на некоторое время Плеханов умолк и посматривал в сторону Ленина своими колкими темными глазами, будто указывал ему: видите, как меня встречают? Посмотрим, как встретят вас, коль вы решили записаться для оппонирования мне.
Инесса, неугомонная Инесса, сидевшая позади Ленина с чашечкой кофе в руках, громко спросила по-французски:
— А вы, вы-то, уважаемый Георгий Валентинович, что сами сделали для предотвращения войны? Провожали несколько социалистов на французский театр войны. Вы одним махом сделали ослами восемьдесят идиотов социалистов, отправив их под пули. Срам же, милый Георгий Валентинович!
Ленин обернулся, одобрительно кивнул головой, но меньшевики зашумели и зашикали на нее:
— Инесса, вы забыли русский язык, что ругаетесь по-французски?
— Вы, беки, вас пригласили послушать, а вы чем занимаетесь?
— А мы и слушаем, — подал голос Ленин и добавил: — Если референт не отступает от Маркса, а коль отступает — неча на зеркало пенять…
Плеханов улыбнулся и сказал:
— Я знал, что Ленин и его единомышленники будут меня критиковать, так что я — не в обиде и отвечу им. Но вот то, что Инесса кричит на меня, — это прискорбно весьма, ибо я не могу вступать в полемику с дамой, тем более очаровательной, — отшучивался он.
— Я разрешаю вам, Георгий Валентинович, выступать против меня при условии, что мне будет позволено выступить против вас, — не осталась в долгу Инесса.