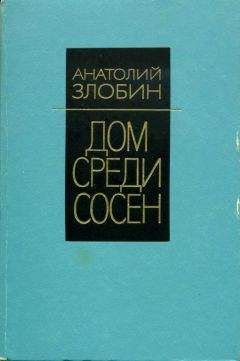Сергей Бобров - Восстание мизантропов
Одно неизданное асеевское стихотвореньице я запомнил в бобровском чтении с одного раза. «Сидел Асеев у меня вечером, чай пили, о стихах разговаривали. Ушел — забыл у меня пальто. Наутро пришел, нянька ему открыла, он берет пальто и видит, что на окне стоит непочатая бутылка водки. Он ужасно обижен, что вчера эта бутылка не была употреблена по назначению, и пишет мне записку. Прихожу — читаю (двенадцать строчек — одна фраза): „У его могущества, кавалера Этны, мнил поять имущество, ожидая тщетно, — но, как на покойника, с горнего удела (сиречь, с подоконника) на меня глядела — та, завидев коюю (о, друзья, спасайтесь!), ввергнут в меланхолию — Юргис Балтрушайтис“». Следовало пояснение об уединенных запоях Балтрушайтиса. «Почему: кавалера Этны?» — «Это наши тогдашние игры в Гофмана». — «И „Песенка таракана Пимрома“ — тоже?» — «Тоже», — но точнее ничего не сказал.
Бобров несколько раз начинал писать воспоминания или надиктовывать их на магнитофон; отрывки сохранились в архиве. Я прошу прощения, если что-то из этого уже известно. «Но, — говорил Бобров, — помните, пожалуйста, что Аристотель сказал: „известное известно немногим“». — «Где?» — «Сказал — и все тут». Я остался в убеждении, что эту сентенцию Бобров приписал Аристотелю от себя, — за ним такое водилось. Но много лет спустя, переводя «Поэтику» Аристотеля (которую я читал по-русски не раз и не пять), я вдруг на самом видном месте наткнулся, словно впервые, на бобровские слова: «известное известно немногим». Аристотель и Бобров оказались правы.
О Маяковском он упоминал редко, но с тяжелым уважением, называл его «Маяк». «Однажды сидели в СОПО, пора вставать из-за столиков, Маяковский говорит: „Что ж, скажем словами Надсона: Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа“ и т. д. Я сказал: „Пожелаем, только это не Надсон, а Некрасов“. Маяковский помрачнел: „Аксенов, он правду говорит?“ — „Правду“. — „Вот сволочи, я по десяти городам кончал этим свои выступления — и хоть бы одна душа заметила“».
Хлебников пришел к Боброву, не зная адреса. Бобров вернулся домой, нянька ему говорит: вас ждет какой-то странный. «Как вы меня нашли?» Хлебников поглядел, не понимая, сказал: «Я — шел — к Боброву». Входила в моду эйнштейновская теория относительности, Хлебников попросил Боброва ему ее объяснять. Бобров с энтузиазмом начал и вдруг заметил, что Хлебников смотрит беспросветно-скучно. «В чем дело?» — «Бобров, ну что за пустяки вы мне рассказываете: скорость света, скорость света. Значит, это относится только к таким мирам, где есть свет — а как же там, где света нет?» Я спросил Боброва: «А каковы хлебниковские математические работы?» — «Мы носили их к такому-то большому математику (я забыл, к какому), он читал их неделю и вернул, сказав: лучше никому их не показывайте». Кажется, их потом показывали и другим большим математикам, и те отзывались с восторгом, но как-то уклонялись от ответственности за этот восторг.
«Хлебников терпеть не мог умываться: он просто не понимал, зачем это нужно. Поэтому всегда был невероятно грязен. Оттого у него и с женщинами не было никаких романов». По складу своего характера Бобров обо всех говорил что-нибудь неприятное. «И Аксенова женщины не любили. Он был тяжелый человек, замкнутый, его в румынском плену на дыбе пытали, как при царе Алексее Михайловиче. Книгу его „Неуважительные основания“ видели? Огромная, роскошная; он принес рукопись в „Центрифугу“, сказал: „издайте за мой счет и поставьте свою марку, мне ваши издания нравятся; я написал книгу стихов „Кенотаф“, а потом увидел, что у вас стихи интереснее, и сжег ее“. (Не ошибка ли это? Судя по письмам Аксенова, они в это время были знакомы лишь заочно). Так вот, „Основания“ он написал для Александры Экстер, художницы, а она его так и не полюбила. А потом для Любови Поповой, художницы, он устроил у Мейерхольда постановку „Великолепного рогоносца“, ее конструкции к „Рогоносцу“ обошли все мировые книги по театру XX в., а она его так и не полюбила». Мария Павловна, жена Боброва, переводчица, вступилась; ее прозвище было «белка», Аксенов ей когда-то посвятил стихи с геральдикой: «Луну грызет противобелка с герба неложной красоты; но ты — фарфор, луны тарелка, хоть и орех для белки ты…» Бобров набросился на нее: «А ты могла бы?» — «Нет, не могла бы».
Поэт Иван Рукавишников, Дон-Кихот русского триолета, был алкоголик последней степени: с одной рюмки пьян вдребезги, а через полчала опять чист, как стеклышко. Наталья Бенар (та, которая, когда умер Блок и все поэтессы писали грустные стихи, как у них был роман с Блоком, одна писала грустные стихи, как у нее не было романа с Блоком), — Наталья Бенар носила огромные шестиугольные очки — чтобы скрыть шрамы: какой-то любовник разбил об нее бутылку. («Спилась от застенчивости», — прочитал я потом о ней у О. Мочаловой). Борис Лапин («какой талантливый молодой человек был!»), кажется, был в начале кокаинистом. Вадим Шершеневич обращался с молоденькой женой, как мерзавец, а стоило ей сказать полслова поперек, он устраивал ей такие сцены, что она начинала просить прощения. Тогда он говорил: «Проси прощения не у меня, а у этой электрической лампочки!» — и она должна была поворачиваться к лампочке и говорить: «Лампочка, прости меня, я больше не буду», и горе ей, если это получалось недостаточно истово, тогда все начиналось сначала. Я склонен этому верить: жена Шершеневича и в самом деле покончила самоубийством.
Борис Садовской, чтобы подразнить Эллиса в номерах «Дон», натянул на бюст чтимого Данте презерватив. Эллис, чтобы подразнить Бориса Садовского, — лютого антисемита, который больше всего на свете благоговел перед Фетом и Николаем I, — показывал Садовскому фотографию Фета и говорил: «Боря, твой Фет ведь и вправду еврей — посмотри, какие у него губы!» Садовский сатанел, бил кулаком по столу и кричал: «Врешь, он — поэт!» («С. П., а это Садовского Вы анонсировали в „Центрифуге“: „… сотрудничество кусательнейшего Птикса: берегитесь, меднолобцы“?» — «Садовского». — «Как же он к вам пошел, он же ненавидел футуризм». — «А вот так».)
Говоря о стиховедении, случилось упомянуть о декламации, говоря о декламации — вспомнить конструктивиста Алексея Чичерина, писавшего фонетической транскрипцией. У него была поэма без слов «Звонок к дворнику» — почему? «Потому что очень страшно. Ворота на ночь запирались, пришел поздно — звони дворнику, плати двугривенный, ничего особенного. Но если всматриваться в дощечку с надписью и только в нее, то смысл пропадает, и она залязгает чем-то жутким: ЗъваноГГ — дворньку! Это как у Сартра: смотришь на дерево — и ничего, смотришь отдельно на корень — он вдруг непонятен и страшен — и готово — ля нозё». Чичерин анонсировал какие-то свои вещи с пометкой «пряничное издание». «Да: мы с женой однажды получаем посылочку, в ней большой квадратный пряник, на нем трудночитаемые буквы и фигуры, а сысподу приклеен ярлычок: „последнее сочинение Алексея Чичерина“. Через день встречаю его на Тверской — „Ну, как?“ — „Спасибо, — говорю, — очень вкусно было“. — „Это что! — говорит, — самое трудное было найти булочную, чтобы с такой доски печатать: ни одна не бралась!“».
Когда он о ком-нибудь говорил хорошо, это запоминалось по необычности. Однажды он вдруг заступился за Демьяна Бедного: «Он очень многое умел, просто он вправду верил, что писать надо только так, разлюли-малина». (Я вспомнил Пастернака — о том, что Демьян Бедный — это Ганс Сакс современной поэзии). Был поэт из «Правды» Виктор Гусев, очень много писавший дольниками, я пожаловался, что никак не кончу по ним подсчеты — Бобров сказал: «Работяга был. Знаете, как он умер? В войну, в Радиокомитете писал целый день, переутомился, сошел в буфет, выпил рюмку водки и упал. И Павел Шубин так же помер. Говорил, что доживет до семидесяти, все в роду живучие, а сам вышел утром на Театральную площадь, сел под солнышко на лавочку и не встал». Мария Павловна: «В Доме писателей был швейцар Афоня, мы его спрашивали: „Ну, как, Афоня, будет сегодня драка или нет?“ Он смотрел на гардероб и говорил: „Шубин — здесь, Смеляков — здесь: будет!“» Я не проверял этих рассказов: если они недостоверны, пусть останутся как окололитературный фольклор. Этот Афоня, кажется, уже вошел в историю словесности. Извиняясь за происходящее, он говорил: «Такая уж нынче эпошка».
Бобров закончил московский Археологический институт в Староконюшенном переулке, но никогда о нем не вспоминал, а от вопросов уклонялся. Зато о незаконченном учении в Строгановском училище и о художниках, которых знал, он вспоминал с удовольствием. «Они мастеровые люди: чем лучше пишут, тем косноязычнее говорят. Илья Машков вернулся из Италии: „Ну, ребята, Рафаэль — это совсем не то. Мы думали, он — вот, вот и вот (на лице угрюмость, руки резко рисуют в воздухе пирамиду от вершины двумя скатами к подножью), а он — вот, вот и вот“ (на лице бережность, две руки ладонями друг к другу плавными зигзагами движутся сверху вниз, как по извилистому стеблю)». Кажется, это вошло в «Мальчика».