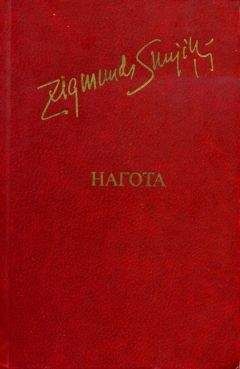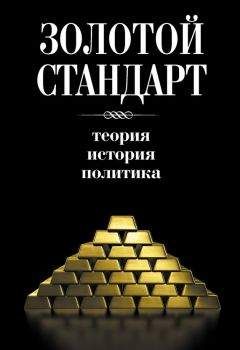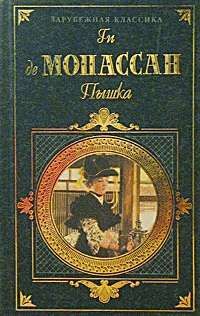Зигмунд Скуинь - Кровать с золотой ножкой
Ноас так расхрабрился, можно было подумать, он в самом деле поднимется с кровати, обзаведется кораблем и отправится на остров Готланд. Однако все кончилось тем, что он привел Паулиса на чердак Особняка и показал ему свои запасы — в промасленную бумагу обернутые косы немецкого производства, связка купленных в Англии подков и три ящика разных размеров гвоздей.
— Забирай, — сказал он Паулису, — мне это добро уже не пригодится, а порядочного наследника нет. Хватит с меня вот этого ящика.
Когда глаза привыкли к темноте, Паулис сообразил, какой ящик Ноас имел в виду. Под пологим скатом крыши лежал гроб. Поскольку крышка стояла прислоненной к дымоходу, нижняя часть гроба имела вид безобидного корыта. Доски, сразу видно, добротные, толстые, из дуба или ясеня, но, обработанные рукой умелого мастера, не производили впечатления тяжеловесности. Хотя по тем временам гроб на чердаке был вещью заурядной, Паулис ощутил в груди холодок. И тут из гроба, звучно хлопая крыльями, выпорхнул голубь.
— Берись за конец, накроем крышкой. От этих стервецов спасу нет. Загадят мне домовину вечного отдохновения, вонь будет стоять до второго пришествия.
Хоть время было военное, в Доме обществ балы устраивались даже чаще, чем раньше. С той лишь разницей, что перед танцевальной частью оркестр играл «Боже, царя храни!», а представительницы женского комитета в перерывах собирали пожертвования на подарки солдатам. Паулис так и не понял, распространяется ли новый порядок лишь на многолюдные сборища или его следует соблюдать всегда. На одной из свадеб он сыграл «Боже, царя храни!», а вышел казус: по волости пошли слухи, будто молодой Вэягал это сделал с пьяных глаз.
Судя по заносчивому тону газет, оптимистическим речам засылаемых Ригой ораторов, по тостам местных заправил в буфете Дома обществ и проповедям пастора при богослужении, победа, можно сказать, стояла у самых ворот. Не раз вывешивали флаги, били в колокола. Но вместо известия о победе неожиданно пришло сообщение, что немцы ворвались в Курземе. На дорогах появились беженские обозы, плакали дети, мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры. Измотанные, растерянные мужчины и женщины, как будто и сами не веря, рассказывали истории своих бедствий — как наспех пришлось покидать дома, как все позади погибало в огне: приказ начальника полиции и военного коменданта был краток: двигаться в восточном направлении.
Ноас позволил нескольким семьям беженцев заночевать в своем доме. Более всего его вывел из себя полученный приказ — «двигаться в восточном направлении».
— Иокогама, Алабама! В таком случае вы взяли неверный курс! — волновался он. — Люди добрые, когда нет под рукою секстанта, ориентируйтесь по звездам.
Той ночью у молодой беженки на кухне Особняка родилась дочка. Роды были тяжелыми. Паулис, поутру прибежавший к Ноасу, увидел ворох окровавленных простынь и полотенец. И первое, что ему пришло в голову: ну вот, война и до нас докатилась. Не могло быть речи о том, чтобы роженица продолжила путь. Паулис перевез ее с малюткой на хутор «Вэягалы». Антония ребенка положила в теплые отруби, а роженицу обложили свиными пузырями с прохладной родниковой водой. Позже, увидев Паулиса, Антония сказала:
— Сдается мне, привез ты дочку себе приемную. Мать вряд ли утра дождется, или я ничего не смыслю в бабьих делах.
Так оно и вышло. Ночью мать умерла, а девочка осталась в «Вэягалах».
— Назовем ее Мартой, и пусть растет на здоровье, — решил Август, оглядывая крошку с тем мудрым благодушием, каким проникаются к детям лишь в старости. — Есть в ней что-то от Вэягалов. Так некстати на свет появиться и выжить…
В середине сентября все заборы в Зунте были обклеены призывами вступать в создаваемый стрелковый батальон. В Доме обществ прошло собрание, на котором Паулису пришлось впервые сыграть «Боже, храни Прибалтику!». Мелодию он краем уха слышал раньше, среднюю часть с переходом, правда, совсем не запомнил. Однако на повторной строфе он схватил мотив. Атмосфера в зале казалась несколько неправдоподобной. Голос прибывшего из Риги оратора будто бритвой водил по спинам слушателей. Оратор вид имел вполне представительный: пенсне на носу, черная визитка. Рядом с ним офицер с погонами штабс-капитана.
— Неприятель топчет наши нивы. Седовласым старцам и детям, матерям и женам — всем приходится спасаться бегством от жестокого врага. Стоны и вопли их оглашают небеса, от нас они ждут защиты! — Человек в черной визитке размахивал черным котелком. — Час настал взяться за оружие. Своим патриотизмом, верностью царю и героической борьбой против нашего исконного врага латыши заслужили право идти в бой под латышским флагом, сплоченные в батальоны стрелков.
Латышского флага Паулис в глаза не видел, понятия не имел, как он выглядит, и все же от волнения запотели ладони.
33
Вербовка добровольцев шла полным ходом. Среди зачитанных докладов были и с такими названиями: «Притязания немцев на Курземе и Видземе», «Немецкий барон — злейший враг латышей», «Латышский народ на грани уничтожения». Всевидящий, всемилостивейший, обо всех радеющий император, которого поначалу еще расхваливали, в какой-то момент был позабыт. В Доме обществ на самом видном месте повесили холст с аккуратно начертанным призывом бить немцев до последней капли крови. По недосмотру холст получился столь огромным, что почти укрыл собой двуглавого имперского орла, о чем Харенфус, бдительный писарь из баронской вотчины, настрочил в Петербург донос. От холста пришлось оттяпать основательный кусок. Местные немцы из кожи вон лезли, притормаживая развитие событий. В докладах о зверствах немцев запрещалось поминать жертвы революции 1905 года, следовало также отличать немцев, подданных русского царя, от немцев, подданных германского кайзера. Какие-то происки велись и в Петербурге, ибо в один прекрасный день пришла весть, что запись в добровольные стрелковые батальоны в Риге прекращена, затем эту весть сменила другая — запись продолжается.
Приятель Паулиса, Янка Стуритис, настаивал, что ехать надо немедленно, пока фрицы на шею не сели. «Уж лучше погибнуть среди порядочных парней, чем подыхать, давя вшей где-то на обочине дороги под Самарой или Астраханью». Паулис так далеко не заглядывал. Ему было всего шестнадцать лет. Да и трагизм происходящего по-настоящему его не коснулся. Бурлившая вокруг жизнь, толчея, новые яркие впечатления держали его в постоянном возбуждении, скорее беспечно-легкомысленном, чем омрачаемом дурными предчувствиями. Страхи были где-то далеко, а в иссушавшей его лихорадке скорее было предчувствие радости, чем беды. И он никак не мог сделать выбор. Уехать тайком, вопреки родительской воле ему не хотелось. Он знал на этот счет мнение отца: армия не то место, куда уходят тайком и обманом. Мать будет плакать навзрыд, держать его обеими руками — не пущу, не пущу! Ноас рассмеется сатанинским смехом — ну, что я говорил, стоит только свистнуть…
В стрелковый батальон из Зунте ушло добровольцами десятка два парней. Когда же и Паулис наконец решился, возникло препятствие, не менее неожиданное, чем появление первой беженской фуры на главной улице. Беженцы завезли с собой тиф, и Паулис заразился одним из первых. Опухший и бледный, метался он в горячке в постели и бредил, будто уже записался в стрелки, прощался с отцом и Ноасом, просил прощения у матери, вопил, что немцы украли его скрипку и что все вокруг пропахло гарью. Переболели тифом также Атис и Элвира. Маленький Эгон в горячке буквально сгорел, превратившись в подобие тени.
Четыре недели спустя Паулис понемногу стал поправляться. От прежнего молодца остались кожа да кости. Зубы во рту шатались, как у пса по весне, лезли волосы, отощавшие ноги дрожали от каждого шага, лоб покрывался холодной испариной.
Вернулся в Зунте и Янка Стуритис. О своих рижских приключениях взахлеб рассказывал. Везде ему удалось побывать, все повидать — на собраниях Латышского просветительного общества и на митингах во дворе театра «Олимпия», регистрационном пункте, что на Дерптской улице, на проводах особого стрелкового подразделения велосипедистов и мотоциклистов, — с набережной Даугавы те отправлялись прямо на фронт. Самого Янку не взяли по досадной случайности. В тот день, как назло, нагрянула комиссия из генерального штаба; что касается возраста, он сумел вывернуться, но потом доктора посчитали, что у него зрение слабоватое, и спровадили домой с такими словами: «В стрелки берем таких, кто умеет не только стрелять, но и в цель попадать».
После того как наступление германцев было остановлено, жизнь в Зунте как будто пошла своим чередом. Беженцы проследовали дальше. На морском берегу расположился сторожевой взвод с шестидюймовой пушкой. От солдат береговой охраны у сестры Янки Стуритиса Алвины и еще одной девицы родилось по мальчику. «Ладно бы девчонок родили, — сказала Антония, — мальчишки — к долгой войне».