Анатолий Черноусов - Повести
И вот когда Багратион перебегал от одного укрытия к другому, в незащищенную его спину ударил второй автоматчик, скрытно обошедший увлеченного боем русского солдата. И он всадил в сержанта Свиридова целую очередь…
Лечили долго, оперировали, резали, вытаскивали из тела позеленевшие пули… И нога, если ее не натруждать, — ничего, жить можно. А вот как натрудишь…
«Но опять же без работы — какая жизнь? И зачем она мне тогда, жизнь?.. Без бригады, без цеха, без таких вот авралов? Аврал — он тот же бой. Тут все кипит, тут чувствуешь, что живешь, что нужен… Ведь машина–то наша, как хлеб, нужна. Формовщики, поди, ждут ее не дождутся, им, может, потруднее, чем нам, для них она, матушка, — спасение!»
«Подсчитать бы, которая это машина у меня. Может, уже тысячная?.. Вот бы собрать в кучу все, что я переворочал за целую жизнь… ого–го, получилась бы гора! В цех бы, поди–ка, не влезла!..»
«Как там дома? Как мои огольцы?.. Эх, поставить бы парней на ноги, успеть бы до того, как придет беззубая!.. Чтобы путевыми стали. Учились бы… вот как Андрюха наш, практикант. Работящий, однако, парняга. Хватка наша, рабочая…»
«А на дворе–то, гляди, опять ночь. Старуха опять заворчит — тебе всегда больше всех надо!.. Молчи, старая, молчи. Ничего ты в наших мужских делах не смыслишь! Не пью ведь я, не гуляю, не шатаюсь где попало. Работаю. Машину клепаю. В мыле вот весь. Рубаху хоть выжми…»
Усталость… Ей подвержено все, даже металлы. Если стальную проволоку сгибать и разгибать в одном и том же месте, то сталь устанет, между ее кристаллическими решетками и атомами исчезнут силы сцепления, и наступит усталостное разрушение, проволока сломается.
Так вот, если напильник, например, или молоток, или сама машина, которую собирала бригада, — могли бы думать, то, наверное, они бы думали так:
«Я — драчевый напильник, я устал. Устал сдирать шкурку с железных штуковин, я горячий от трения, зубы мои притупились…»;
«Я — слесарный стальной молоток. Я устал колотиться лбом о железный затылок зубила. У меня болит от этого голова…»;
«Я — машина. Меня собирают. Я вся истерзана, изрезана пламенем сварки, иссверлена сверлами, стянута болтами и гайками. Мои механизмы пока еще мертвы, я пока как бы сплю. Мне еще многое нужно, чтобы я ожила, зашевелилась, задышала. Я только–только рождаюсь. Трудно рождаюсь. Я устала…»
Пригоняя крышку, Геннадий думал о том, что он очень устал, что шестые сутки толком не спит, так как ночами приходится пересчитывать задание по технологии. Иначе нельзя. Иначе «хвостов» не оберешься… И все из–за этой штурмовщины проклятущей! Вот ведь ему, Геннадию, и нравится здесь, нравится сборка машин, интересно. Но уж очень тяжело в конце месяца, вот как сейчас. Духотища, жарища, потом обливаешься, ноги как чужие. А ведь любая работа, будь она трижды интересной, если она изматывает, может осточертеть.
И еще Геннадий думал о Магде, о том, что рано или поздно, а придется задать себе вопрос: «Ну, а дальше что? Захочет ли Магда, сможет ли приехать навсегда? И каково ей здесь будет: без родителей, без братьев и сестер, которых она так любит?.. Не была ли наша дружба обречена с самого начала?.. Не было ли это все ошибкой?.. Горькой ошибкой?..»
Андрюха Скворцов затачивал на станочке сверло. Прижимал головку сверла к звенящему наждачному кругу, сощурившись глядел на огонь, бьющий из–под сверла, и думал о Багратионе, о Пашке, о Сене, о Геннадии. Он видел, как тяжело сварщику, как из последних силенок работает Сеня, как отяжелели веки у Геннадия. Он видел это, понимал их состояние и думал, думал над тем, что он должен сделать для них в будущем, чтобы им не было так трудно…
— Скажите, мистер Скворцов, с чего начнете вы свою деятельность в качестве министра?
— Я начну с того, что объявлю смертный бой штурмовщине.
— Не будете ли вы так любезны, господин министр, объяснить, каким образом намерены вы это делать?
— Научная организация труда на базе полной автоматизации производственных и управленческих процессов. Ну и, конечно же, неустанное, кропотливейшее воспитание всех работников сверху донизу. Лоб разобью, но добьюсь этого сочетания, добьюсь в промышленности порядка, не имевшего прецедентов в мировой практике.
— До сих пор это не удавалось…
— В характере русского народа, говорил Бисмарк, медленно запрягать, но быстро ездить… Так вот, считайте, господа, что до сих пор мы только «запрягали»…
Андрюха повертел в занемевших от напряжения руках сверло, осмотрел его режущие кромки и остался доволен заточкой. Возвращался к своему рабочему месту, а вокруг стонало железо, визжало железо, стучало, грохотало железо, скрежетало, горело железо, гремело железо. Железо, железо, железо…
Когда время перевалило за полночь и когда всех сборщиков уже пошатывало от усталости, мастер велел очистить машину от хлама, прибрать участок.
Оттаскивая в сторону инструмент, негодные детали и куски листового железа с рваными после газорезки краями, Андрюха думал о том, что мастер, пожалуй, торопится с запуском, что не мешало бы еще раз пройтись по узлам, проверить, убедиться…
Кое–как очистили и машину и участок от хлама, под мост, между рельсами поставили деревянный ящик размерами с кузов трехтонки. Мастер кивнул рыжему электрику, стоящему возле пульта управления, — можно! — электрик большим пальцем правой руки надавил на черную кнопку, крайнюю в ряду таких же черных пусковых кнопок.
Зацокали, защелкали контакты, дрогнул и плавно покатился, гудя колесами, тяжелый стальной мост. Он напоминал собой железнодорожную платформу, которая движется боком по широко расставленным рельсам. В конце пробега сработали конечные выключатели, на какую–то долю секунды мост застыл, будто споткнулся, и так же деловито направился в обратный путь.
Мастер снова кивнул, и электрик надавил на вторую кнопку. И сразу же по мосту, по его узеньким рельсам, туда–сюда, словно неуклюжий ткацкий челнок, забегала тележка. Четко отщелкивали контакты конечных выключателей, заставляя тележку метаться вправо–влево по мосту.
Но вот к гулу двух моторов добавился третий: побежало, замелькало швом полотно малого конвейера, установленного на тележке. А минуту спустя на площадке, приподнятой над машиной в виде виадука, заскользило, потекло широкое полотно большого конвейера.
Обросшие, с бледными лицами, сборщики стояли в сторонке, жадно курили и смотрели на свою машину, на громадину, которая наполнялась движением, гулом колес и моторов, щелчками контактов.
Андрюха попросил у Пашки папиросу и, нервно помяв ее в пальцах, закурил.
— Давай! — хриплым голосом крикнул мастер.
Электрик, облизнув губы и вдохнув побольше воздуха, всей ладонью надавил на самую большую кнопку. И тотчас же взревел громадный ребристый мотор, окрашенный в салатный цвет. Набирая обороты, он начал разгонять невидимый, заключенный в чугунную головку ротор — это строго сбалансированное колесо, на котором закреплена плица.
Геннадий, стоя вверху на виадуке, запустил совковую лопату в железный бункер и сыпанул на конвейер первую порцию формовочной земли.
Черная горка этой волглой земли проплыла по ленте вдоль виадука и, задержанная косо поставленным лемехом, свалилась на ленту малого конвейера, который и донес землю до головки. Земля исчезла в головке, но через мгновение, захваченная и раскрученная ротором, вылетела из сопла головки в виде черной струи.
Геннадий кидал теперь землю не останавливаясь, и она вылетала из головки, как из брандспойта, с силой била в деревянный ящик, установленный под машиной, покрывала дно ящика равномерным плотным слоем.
Андрюха поеживался от томительно–радостного озноба. Сотни и сотни деталей и деталюшек: валы, втулки, кольца, подшипники, кронштейны, зубчатки, рычаги, фермы — все это собрано в единую махину, и вот… она в движении, она уже работает, из нее хлещет черная струя земли и утрамбовывается на дне широкого ящика.
Андрюха смотрел на машину, на разумную согласованность ее движений и гордился ее сложностью, ее назначением. Эта машина сама будет рождать машины…
Андрюха почти влюбленно смотрел на машину. Сколько клочков своей кожи оставил он на ее острых углах! Всю ее изъездил, вытер своими штанами; почти каждой ее части касались его руки; на нее катился пот с его лба. И вот она, лапушка, оживает, наполняется смыслом, полезностью…
Обороты ротора все нарастали, нарастали, приближаясь к пределу; черная струя уже хлестала из головки с такой силой, что отдельные песчинки, задевая за края чугунного сопла, высекали искры. У Андрюхи при виде этого покалывало в кончиках пальцев.
Когда же предел — полторы тысячи оборотов в минуту — наступил, из сопла вместе с землей вылетело что–то, мелькнуло. Плица? Как пушечное ядро, грохнула чугунная плица в дно ящика, раскололась, брызги–осколки разлетелись в разные стороны. Один из них, обдав визгом и вихрем, пронесся у самой Андрюхиной головы и саданул в окно. Посыпалось стекло. И в следующий момент Андрюха увидел, как сначала тележку, потом мост, потом всю машину забило мелкой, все увеличивающейся дрожью.

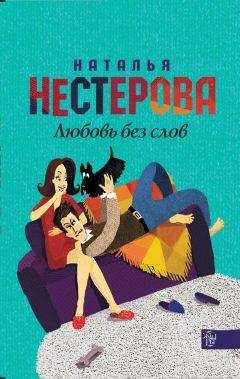
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)
