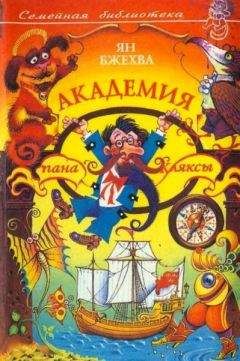Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
Война стала унавоженной грядкой для шовинизма. Умер Н. О. Эссен, и отца с флота перевели в Адмиралтействсовет. Пошла мода на крещение и смену фамилий. И мы быстро стали православными и Корвиными. Нас потешала мамина прыть: ходить в церковь и креститься кстати и некстати.
Под Пасху «Коровья отрыжка» отпускал грехи коллективно. Мы писали грехи на бумажке, а поп ставил нас на колени человек по 6–8 вокруг себя и всех коллективно накрывал епитрахилью. Раз, два, три и — все безгрешны. Тут возникло соревнование: у кого больше грехов. За неочередную горбушку можно было добыть несколько грехов. Началась спекуляция.
Вдруг вспомнил одну корпусную историю. В 1917 году отказались принимать какой-то сомнительный суп и невиданную до этого маисовую кашу. Бунт! Педагоги заволновались, но все обошлось. Уже не то время, не те порядки, не те харчи. А обошлось потому, что кто-то на листе бумаги изобразил некоего революционера, извергающего слюну и лозунг: «На рею барских детей, отвергающих революционную еду!!!»
С февраля 17-го года появились сложности в хождении домой: необходимость приветствовать революционные массы. А с октября мы ходили в форме, но даже без погон и без кокарды, и все равно требовалось искать безлюдные места.
Это было унизительно, особенно унизительно тем, что юношеское сознание не могло воспринять, что же мы сделали плохого своей стране?
Самый старший мой брат и два двоюродных погибли на фронте, защищая родину. Отец всю жизнь сражался за нее. Вопросы «за царизм» или «за родину» были синонимами, и вдруг я стал изгоем.
Было очень трагично. Постепенно юношеский ум все-таки пришел к выводу, что родина это столь великое понятие, что его нельзя отождествлять со случайными выпадами революционных масс.
Морской корпус закрывали так. В здании появились какие-то типы в студенческих тужурках и матросы. Ходили они всюду бесцеремонно, в компасном зале прямо через центр картушки. Так происходило примерно до середины ноября. Когда командир роты, капитан 2 ранга Чарыков, собрал роту в коридоре лазарета и сообщил, что всех нас разгоняют, петербуржцы следуют домой в гортранспорте, казенном обмундировании, но без погон, кокард и палашей (я запомнил эту фразу). Всем остальным командир роты дал аттестаты и денег на дорогу, попросил прощение, что денег может дать мало. Потом он переобнимал всех нас и мы поодиночке разошлись из корпуса кто куда.
Мое возвращение было предельно будничным, так как надо было только перейти улицу — и я дома.
Хуже было загородным. Собственно, было две группы — дети моряков Черноморского флота и дети офицеров Сибирской флотилии. Если севастопольцы еще могли добраться домой, то владивостокчане вряд ли: надвигалась зима с ее морозами, голод, разруха, шныряли какие-то банды. Сколько кадетов Морского корпуса осталось в живых, не знает никто…
Хорошо помню, как после революции василеостровские мальчишки, завидя нас в фуражках и погонах, бежали и дразнились: «Кадет, кадет, на палочку надет, палочка трещит, кадет пищит». Смею заверить, было здорово, особенно оттого, что сдачи не дашь. Один в поле не воин.
Мы жили тогда на 10-й линии Васильевского острова в доме 15. Как-то утром заявились к нам опоясанные пулеметными лентами матросы и заявили: «Адмиральша, завтра с утра катись со своими щенками к… Забирайте только то, что можете унести на себе». Оставили охрану из матросов и ушли.
Я проявил смекалку: предложил матери матросов напоить. Это удалось. Ночью самое ценное мы вынесли и спрятали у соседей, нам сочувствующих.
А утром были препровождены на Варшавский вокзал, откуда и поехали в Лугу к тетке.
Так началась стихия приключений и бедствий.
Должны ли были наши ротные командиры и классные воспитатели готовить нас к революции? Но признаемся — большинство из них даже не знали, что, собственно, декларировала Великая французская революция.
А была ли революция? Вроде и нет. Скорее, это был стихийный гнев — дайте хлеба кормить детей, мужиков угнали на войну с немцем, так кормите же нас!
Одно можно утверждать на все сто процентов — никто в то время и не помышлял о царстве большевизма, более того, самый фантастический ум не мог предполагать, что это такое — реальный социализм.
Недавно отправил Вам письмо, но короткое. А тут вдруг вспомнилось кое-что из древнего и захотелось черкнуть.
Знаете, воспоминания — это цепочка, взглянул на что-то под неким ракурсом, возникла ассоциация, и пошло, словно стал перебирать четки. Хорошо было Аввакумам, Несторам и т. п. А каково нам, марксистам-ленинцам?
В Луге мы быстро впали в полное ничтожество и, чтобы не помереть с голода, я устроился на Лужский артполигон телефонистом.
Но скоро меня вместе с другими парнями посадили в вагоны и отвезли в город Павлово на Оку, где стали формировать 2-ю Петроградскую дивизию. Из Павлова повезли в Казань воевать против чехословаков. Но мы позорно побежали и удрали от братьев-славян аж в Свияжск. Там стоял поезд Троцкого с морской охраной. Нас бросили против Мамонтова, который подходил к Орлу. Тут наступили адские морозы, и все попрятались по хатам, а Мамонтов убег на юг.
Потом мы воевали с бело-латышами, там меня ранило в ногу. Весной 20-го пошли бить поляков; моя дивизия входила в 15-ю армию Корха. Дошли аж под Варшаву, до города Носельска, 30–40 км севернее Варшавы.
Когда под Носельском поляки нанесли нам удар, то мгновенно началось повальное и неорганизованное бегство. Свои пушки мы побросали, правда, замки бросали в колодцы. Самое жуткое впечатление было от нашего транспорта. На телегах были мобилизованные мужики, прихваченные по всему пути наступления. До самой Варшавы тащились деревенские повозки, запряженные худющими лошадьми с возницами в лаптях и домотканых зипунах. И телеги, и мужиков мы попросту бросали, выпрягали лошадей, садились верхами и драпали на восток. Ориентир был один — туда, где солнце восходит. Как мужики добирались домой, один Бог ведает.
Озлобленные поляки расправлялись с отставшими одиночками (на организованные части не нападали). Страшно вспомнить, как жестоко были изуродованы трупы наших.
На обратном пути бегства лозунгом был: «Бей поляков, жидов и коммунистов!»
Достойно удивления, как из этих банд довольно быстро все же удалось создать воинские части, героически пошедшие меньше чем через год на штурм Кронштадта. Вероятно, добиться такого можно было только дикой жестокостью.
Забыл: тысячи мужиков требовались потому, что изможденные от бескормицы и песочного бездорожья лошади с трудом тащили по 4–6 снарядов трехдюймовой пушки.
Война с Польшей в 20-х была не классовая, а самая что ни на есть националистическая. Наши бойцы ненавидели все польское и католическое. У нас в 15-й дивизии особенно. В 31-й артбригаде отличались разведчики братья Еремины из Казанской губернии. Они запаслись не то дегтем, не то краской, и на самом видном здании очередного занятого нами местечка сразу появлялась надпись: «Сдох Пилсудский, сдох!» По одним таким надписям можно было проследить боевой путь дивизии. Те же разведчики на дверях всех костелов писали: «А мы е… матку божку».
Питались всю войну реквизированным продовольствием. В дивизионе у одного из младших командиров была квитанционная книжка. Заняли Гмиду, он к старосте: «Кто тут самый богатый?» Потом к богатому во двор, кабана за ногу, и готово. Затем наш реквизитор определял так называемый живой вес кабана, конечно, на глазок. «Полтора пуда», — говорил он и выписывал квитанцию, но вместо пуда писал…
После Польского похода в Петербурге нас разместили на Большой Дворянской, рядом с дворцом Матильды Кшесинской, в полупустой квартире. Ее обитателями были полчища крыс, с настоящих кошек величиной, и три девицы легкого поведения. Одна из девиц ходила в матросской голландке, синей юбке и, естественно, обратила взгляды на меня.
События развивались стремительно и бурно. Я, несомненно, лишился бы девственности, а может быть, подхватил бы гонорею вместе с сифилисом. Спас меня от них Кронштадтский мятеж.
Мы шли через Мартышкино на Петропавловскую пристань по льду в составе 32-й бригады, я тащил катушку с телефонным кабелем.
Провоевав три года, штурмовав Кронштадт по льду, растеряв все, что было ценного, и вернувшись домой, я встретил одно: учиться мы тебе не дадим — так сказали революционные массы.
Но, стиснув зубы, удалось и это преодолеть и стать нужным стране. А дальше — а дальше известно что: враг народа.
Поймите правильно: только сейчас, готовясь уходить из жизни, возник передо мной вопрос: а может быть, следовало идти в белое движение? И, может быть, если бы мы все пошли в него, не было бы проклятого террора, сталинщины и миллионов людей, отправленных на тот свет выстрелом в затылок.
И почему мы и сейчас не знаем, кто же стрелял в нас?