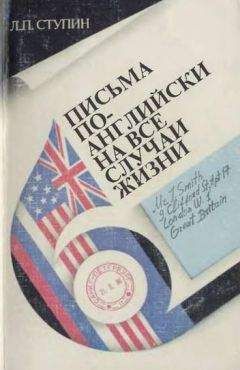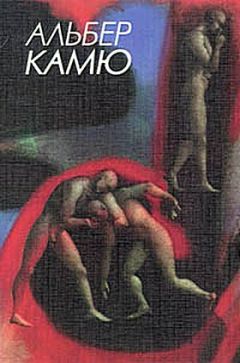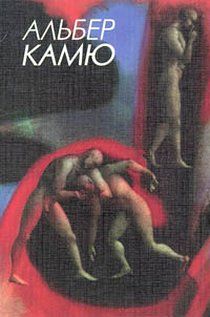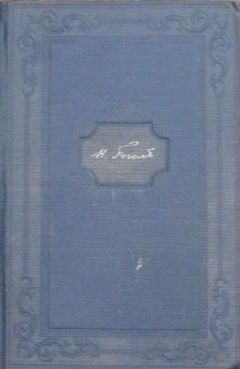Борис Пильняк - Том 5. Окэй. Камни и корни
Балы ж бывают различны (в официальной своей части), – обязательно бывает баварский вечер, когда все вооружены сосисками и кружками с пивом, когда на головах у всех надеты бумажные шляпы, пустые пространства заполнены воздушными пузырями, серпантином, во ртах у всех, кроме сигар, воткнуты свистульки, и балующие задают кошачьи концерты на мотив: «О, майн либхен Лизабетт, Лизабетт!» – Оркестр тогда переодет в баварцев. На пьянстве гейдельбергских студентов шутовские бумажные шляпы сменены шутовскими студенческими – корпорантскими, буршскими – каскетками.
И обязательно бывает так называемый американский вечер. Это в ночь перед Америкой, когда американцы вспоминают, что на родине у них «прохибишен», то есть сухой закон, и налегают на легальные алкоголи со всем американским размахом. Размах, действительно, получается грандиозный. Пьют грандиозно не только в салонах, но на всех лестницах и палубах, залезая для поэзии иной раз под вельботы. Пьют, не разбираясь ни полом, ни возрастом. Каютные дела выползают тогда не только на палубы, но и в салоны, в каютных переулках останавливая время в вечность бутылкой виски в рот из горлышка. С российским пьянством этот американский размах во всепалубном масштабе сравнить возможно разве лишь в ломовом порядке. Куда русским!
Советскому гражданину и пассажиру – прямо надо сказать – все это кажется свинством, в независимости от масштабов. Советский человек, оставивший за собой трудное, стальное величие его страны (а действительно, за пределами СССР, сейчас же за польским «кордоном», – необыкновенно, величественно начинает гореть звезда СССР, когда быть гражданином СССР – величественно и гордо!), советский человек понимает, конечно, что тикер, фактический хозяин корабля и людей на корабле, понятен, к сожалению, немногим, – что нет такого американца, который мог бы съесть все то, что ему предлагается, но в подпалубных классах есть такие, которым не предлагается ничего, – что многие американцы тоскливо и подагрически ложатся спать до фокстрота, – что первый класс (и даже в первом классе люкс и ритц, где кобенятся миллиардеры за особую приплату, не желая есть с остальными), – тикер, водка, деревянные скачки, гимнастика и теннис на верхней палубе, «монкэй бизнес» («обезьянье дело» – то, что юркает женскими халатиками на мужских переулках и шлепает опоенными туфлями на переулках женских) – все это идеалы.
Советский гражданин держится в стороне, чуть-чуть ошарашенным. Ему хотелось бы пустить в эти верхнепалубные просторы тесноту подводных консервов и необходимостей третьего класса, советскому гражданину понятных.
Советский гражданин, автор этих строк «О'кэй», американского романа, ехал в качестве писателя. Он знал, что ему нужно было поехать, но он также знал, что для его страны американские комбайны и тысячетонные штамповальные станки нужней его поездки. Поэтому он не взял с собою советского золота и отъезжал от советской границы без единого цента.
В Варшаве он получил злоты, которых ему хватило до Берлина. В Берлине он получил марки, которых ему хватило до Парижа. На «Бремене» оный писатель, стаивая у форштевня, рассматривая океанские просторы горизонтов и светящихся фосфорически под носом корабля моллюсков, – соображал:
– от Варшавы до Берлина, от Берлина до Парижа, от Парижа до Нью-Йорка, – ну, а там как-нибудь образуется, поелику одна голова не беда, а и беда – так одна.
Но писатель был писателем, а в пароходной газете напечатан был список пассажиров. И в день выхода этой газеты – сначала этакая сухая леди, а затем этакий сонный мистер, торгующий в СССР пушниной, – справились, – что, мол, такой-то не такой-то ли? – Барышня заинтересовалась моими фокс-данными. Мистер потащил меня к маникюрщику, справляясь о точке моих зрений на виски «блэк-энд-уайт» и «скотч».
И в этот же день пришли радиограммы из-за океана. Приветствуем, дескать, встречаем, все о'кэй, но одна телеграмма гласила:
«номер приготовлен в отеле «Сент-Моритц» – Я спросил сонно-пушного мистера, что это за гостиница. Мистер оживился, прочитав конфетно-изящную бумажку каблограммы, и сказал, что это одна из самых дорогих гостиниц в Нью-Йорке, в пятьдесят этажей, и находится между Пятой и Шестой авеню, против Сент-рал-парка –
Единственную каблограмму я послал с океана моему издателю: не надо, мол, мне «Сент-Моритца»!
Вечером мне подали новую каблограмму:
«остановиться в «Сент-Моритце» необходимо стап номер бесплатно» –
Я подивился любезности издателя, хоть воспринял этот номер, как вставной зуб.
4Океан был величествен. За ютом была Европа. Форштевень двигался к Америке. У русского человека есть такое:
– весна, завалинка, в валенках на завалинке сидит дед и блаженствует всем земным блаженством, – куры роются в пыли, тепло, девки-трактористки проехали на тракторах с пахоты в гараж, стрижи царапают закат, – деду нельзя как хорошо! – и дед говорит:
– Благодать-то, благодать-то какая!.. – и молчит лирически, и добавляет: – Зубы чтой-то давно не болели, – вон у Сидора Меринова вторую неделю болят…
– именно, – нельзя так! – нельзя русскому человеку, чтобы ему было хорошо, когда у Сидора Меринова болят зубы вторую неделю. И у каждого русского человека обязательно есть свой зуб. Под величие Атлантики, на путинах из Старого Света в Новый, открытых тогда, когда история человечества нащупывала пороги капитализма и лазила в подворотни открытых, и заросших уже бузиной, ворот средневековья, русский писатель думал:
– В веках, в громадных веках, быть может, в Атлантиде, в несуществующих теперь землях, возник первый человек. Где-то на берегах Атлантического и Индийского океанов, у Средиземного моря возникли первые вести о человеке, известные человечеству. Из небытия, из мрака времен, из непознанностей на берегах Средиземного моря возник тот ручеек истории человечества, который определил потом судьбы цивилизации земного шара. Этот ручеек Месопотамией, Палестиной, Египтом, Ассирией вести о человечестве вынес к грекам и римлянам, зародив историю Европы. От греков и римлян история полузаписана. Сколько народов, сколько цивилизаций, религиозных и философских систем, государственных образований возникало у человечества, жило, цвело и гибло! От римлян колымага истории известна, – известно, как эта история текла, – поистине текла, – происходила, случалась, – как обливалась кровью германцев, гуннов, галлов, – как костенела средневековьем, – как перестраивали ее пар и ткацкий станок, – как грозами шли по ней революции. Но старость не есть древность. И если Египет, Ассирия и Вавилон погибли от греко-гунно-алланов, то до братьев их, живущих до сих пор в Индии, Китае, Японии, гунно-ев-ропейцы добрались только в прошлом веке. Эти народы ведут свою историю от времен Артаксерксов, причем Япония свою историю сплела с Европой империалистическим равноправием разбоя. Все это происходило. И первая история, которая имеет свою дату возникновения, – это история Америки – не индейцев, конечно, но европейских колонизаторов. История Америки – молодая история. Мать американской истории – старуха Европа. Что взяли дети у матери? – дети победили мать? – молодая Америка западнее Запада? – действительно ль она гораздо больший Запад, чем Западная Европа? Великий океан есть громадный шов земного шара, где с одной стороны в океан обрывается древность Востока и с другой – молодость Запада, – недаром в Тихом океане есть черта, где корабли иль останавливают время на сутки, иль сбрасывают сутки со времени. Но: земной шар – есть шар, и, стало быть, в тот час, когда на Востоке романтиков панствует древность ночи (помните, – «спит седой Восток!»), – на Западе тогда закатывается день, – и, следовательно, где-то есть утро. Это утро в Союзе Социалистических Республик, история которого имеет дату рождения – 25 октября 1917 года старого стиля – и история которого не происходит, но строится, делается, конструируется.
Писатель был в Японии, Китае и Монголии, чтобы видеть древность Востока. Писатель поехал в Америку, чтобы видеть самый западный Запад. Писателю хотелось решить, как надо сшить тот шов, который образован Пасификом, ибо писатель знал, что швы национальных культур лопаются один за другим, подобно обручам на сгнивших бочках.
– и все это писатель думал неверно, потому что думать так – романтика, писателям свойственная, но необходимости не имеющая. Все гораздо проще. Человеческая история растет. От надутых воздухом шкур барана, на которых в древности люди переправлялись через реки, человечество доросло до шестидесятитыся-четонных кораблей, бороздящих океаны. По принципу надутых воздухом шкур барана человечество построило цеппелины, а нью-йоркские небоскребы, где живут люди, вершинами своими уходят в облачные дни за облака, похожие на бараньи шкуры. От каменного века и от первобытного коммунизма человек прошел дорогами средневековья, феодализма, абсолютных монархий, буржуазных революций, капиталистических демократий. Каждая из этих проистекавших эпох полагала, что она завершает достижения человечества, что она вечна, – и каждая из этих эпох умирала. На больших дорогах истории человечества это было всегда в первую очередь. Именно поэтому в человеческих закоулках и до сих пор отстали от времени центрально-африканский и самоедский бронзовый век, северо-индийский феодализм. И даже в Европе кое-где до сих пор воняет псиной монархий. Человечество сейчас переживает эпоху, когда на смену капитализму идет социализм, кто бы и как бы хотел этого или не хотел, – и социализм не проистекает, но строится. Бактерии тифа, чумы, холеры в изолированном виде в природе не встречаются. Их можно найти только в бактериологических институтах. Там они совершенно чисты, помещены в бульон, разлиты по колбам и называются «культурами» – тифа, чумы, холеры. Капитализм в Европе, по существу говоря, в совершенно чистом виде виден трудно. То тебе глаза застят раскопки древних. То понятия твои спутала «вежливость» последних Людовиков. То ты потонул в английском дедовском кресле, ровеснике английских консерватизма, парламента, Вестминстера и ведьм, сжигавшихся некогда под Вестминстером и сжигаемых до сих пор речами консерваторов в парламенте. То в Шамборском замке ты видишь тени Мольера, которого играют до сих пор и который до сих пор звучит европейски. Америка начала свою историю самостоятельности на принципах французских энциклопедистов, сразу начав с буржуазной демократии, пионерами своими имевшая людей, главным образом сектантов, авантюристов и преступников, не укладывавшихся в европейский склероз средневековья. И не есть ли Америка теперь – Соединенные Штаты – культура капитализма в чистом виде, подобно бульону чумы в бактериологическом институте? – этакая колба на сто двадцать миллионов свободно-капиталистических американских граждан?!